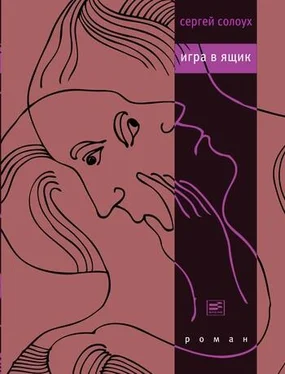Чувство стыда не было ведомо Модесту Ильичу Валентинову, этому кем-то заботливо и ладно скроенному хаму его заменяло нечто вроде ощущения крайнего физического неудобства, словно он вдруг ногу отсидел или неловко оцарапал палец о металлический крючок новых кальсон. И для того, чтобы избавиться от внезапно возникшего чувства крайней неловкости, после каждого такого непрошеного урока дорожной арифметики приходилось Валентинову, прибыв в очередной Бердслей или По, тотчас же после регистрации в отеле везти мальчика в торговые ряды местного даунтауна и покупать все, на что хватало текущей дневной наличности, – шоколадного ангелочка в цветной фольге, пару бутылок кока-колы, скаутские часы со светящимся циферблатом, роликовые коньки, приделанные к высоким черным сапогам на шнуровке, бинокль, коробку жевательной резины, длиннополый макинтош с шерифскою звездой и еще много всяких глупых безделушек – очков с темными стеклами и перочинных ножичков с серебряной ручкой.
Но область точных наук не была единственной закрытой от мысленного взора маленького Сукина темными шторками его неповоротливого ума. Образ негодной к восстановлению фотографической камеры, с навсегда опущенной, как веко, диафрагмой, частенько приходил в голову Валентинова. В очередной раз киноантрепренеру ясно представилась пленка, серебро которой не сможет проявить никакой, даже самый концентрированный раствор германского метола и гидрохинона, во время недавнего пикника в Буа Булонь, среди солнечного летнего дня ангела его воспитанника.
– Ле куто, – сказал мальчик, подавая гарсону нечаянно оброненный на пол нож.
– Точно не ля? – весело поинтересовался Валентинов, когда официант ушел менять прибор.
– Точно, – с хмурой, совсем уже необаятельной уверенностью не мальчика, а недоросля ответил ему Сукин. – На ле все, что кончается на «то». Лото, пальто, я знаю, только вы всегда меня нарочно путаете. И наша консьержка тоже.
Таким образом, школа отпадала по всем показателям, включая антропометрические. Рост метр шестьдесят пять в подготовительной ступени вязался лишь с учителем-корсиканцем, а никак не учеником из русских. И оставался один только мягкий плюш громоздкого кресла, занимавшего добрую четверть гостиной на рю Вавен, да черные костяшки домино, которые Сукин часами раскладывал вихляющими и логики лишенными китайскими дорожками прямо у себя на коленях, на куцем и кривом куске очень плотного картона, наткнувшись на край которого, как будто ойкнув, замирал, чтобы полдня потом изучать саму собой сложившуюся тропку с перепутанными следами звериных лап. Модест Ильич Валентинов не вполне даже понимал, смешит его или раздражает унылый и бестолковый вид этого гималайского следопыта в кресле. Однажды он привез для Сукина шахматы в красивой коробке с красными и белыми квадратиками, но тот ее, кажется, и раскрывать не стал. Какой-то новый интерес у Сукина вызывали, пожалуй, только большие русские книги с картинками, которые Валентинов время от времени покупал специально для воспитанника в магазине издательства Дарюшина у парка Монсо. Одну из таких, увесистую, в крепком синем переплете, с большими и нежными, как настоящие акварели, иллюстрациями на отдельных глянцевых листах, Сукин как раз держал на коленях в момент, когда казак Иван, по обыкновению беззвучно, в своих мягких, будто бы из рыбьей шкуры сделанных сапогах подошел к огромному креслу и тронул молодого барина за плечо.
– Я не хочу чаю, потом... – пробормотал Сукин, не поднимая головы и не оборачиваясь.
Белые полотнища парусов легкой шхуны на рисунке бушующего моря с первого взгляда казались обыкновенным пусто-пусто, но чем больше Сукин вглядывался в тревожные переливы цветов, тем явственнее проявлялись, как тени, едва видимые, но несомненно художником намеченные точки два-один. Весь мир был полон знаков и намеков, но вновь, как и всегда, Сукин оказывался бессилен понять их тайный и спасительный смысл.
– Вас просят, – сказал Иван, продолжая стоять у Сукина за спиной. – Вы бы прошли к аппарату...
– К аппарату? – изумленно повторил Сукин последнее донесшееся до него слово, и даже слегка повернулся на круглых валиках кресла, отчего мягкая воронка его уха с аккуратной дырочкой посередине оказалась прямо перед глазами слуги. Сукин так давно слился с серой, темной обстановкой комнаты, так давно уже ощущал себя ее ватной, неподвижной и безличной частью, что решительно было теперь невозможно поверить, будто кто-то где-то вдалеке мог вызвать его, пригласить, назвать по имени, да не просто так, про себя или тихим шепотом, а по-настоящему, через барышню-телефонистку и слугу-казака.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу