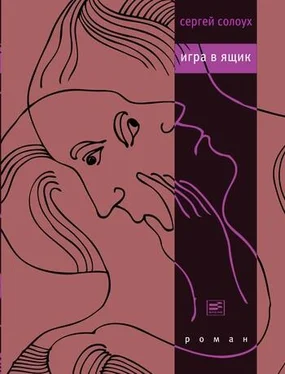Возвращался в Фонки Катц медленно, слово прощаясь со всем чистым, прекрасным и всегда новеньким, все глубже погружаясь, уходя в зону вторую, третью, покуда закономерным образом, естественным порядком не уткнулся в совсем уже негодное б/у.
На лестнице общаги, преграждая Боре путь к чемоданчику с индийскими замочками и сумке с японским в цвет синтетики боков зиппером, сидела, кузнечиком разведя острые колени, худая, жидковолосая и пьяная. Созданье было в юбке, но чего-то белого, синего или на худой конец красного под этой раскрытой во всю ширь полоской ткани не было.
Борис зарделся и тут же побелел. Под легкой, на одну пуговичку застегнутой мужской рубашкой тоже ничего не было, только две мальчишеские фиги и медалька. Монетка с переплетенными лучами шестиконечной звездочки.
– Это мне знаешь кто дал? – неожиданно членораздельно объявило существо, сначала неторопливо открыв моргала, а потом и разлепив губы. – Сын Покабатько дал. Да, Славян. Я ему, а он мне... Серебряная, если не наврал.... Наврал, конечно... Сплав какой-нибудь... А еще у меня от Славяна трихомоноз был... От него самого трихомоноз был, такая мерзость, а от его медали серебряной никакого счастья, хоть и обещал... О, – внезапно дернув головой, как будто выныривая на секунду из бессознательного в осознанное, задорно протрубил бывший носитель заразного заболевания. – О... А я вижу, куда ты смотришь, а я знаю, кто ты...
И, расплываясь в хитрой и радостной улыбке, в лохмотья пьяное лицо женского пола объявило Боре Катцу, Борису, впервые в жизни, наверное, не представившемуся, не сделавшему сообщения о редкой фамильной букве «т»:
– Ты иврей!
И так это забавное открытие вдохновило сидящую, что она даже попыталась встать, а когда не получилось, довольно требовательно приказала:
– Помоги..
– Зачем?
– Ты отведешь меня домой.
– Я?
– Ты. Потому, что ивреи, отибав, домой отводят, на лестнице не бросают, я знаю...
И такой ужас накатил на Борю, еще не остывшего от мусорского гостеприимства и частных заключений по национальному вопросу, от одной мысли, от одного предположения, что это вот, вот это, оно может думать, будто бы он, Борис, Борис Аркадьевич, Катц с буквой «т» способен притронуться, тем более взять, здесь, на лестнице. И такое отчаяние беднягу забрало, что, ошарашенный и смятый, он даже отпираться не посмел. Борис Аркадьевич протянул несчастной руку.
Путь был недолгим. Через Фонковский проезд к ближайшей двенадцатиэтажке. Боря посадил прозрачное и липкое словно медуза создание на коврик перед дверью и готов был тут же сделать ноги, но вновь его остановили, причем привычным образом.
– Ты что, дурак? – спросили с пола. – Как я достану ключ?
– Какой?
– От дома. Он же под ковриком. Какой ты, блин, смешной, чтобы не потерять по пьяни, я его там прячу. Подними.
В какой-то совершенно голой, но затоптанной однушке на дедовском комоде стояло фото члена-корреспондента академии наук, директора ИПУ им. Б. Б. Подпрыгина с размашистою надписью: «Моей двоюродной племяшке Ирочке Красноперовой. Дядя Антон».
Борис вернулся в узкую прихожую и долго смотрел на грубую и темную медальку на совершенно белой, цыплячей, будто бы вареной коже.
– Ты хороший, я тебя люблю, – в ответ сказали с пола нежно. И тут же с пьяной непосредственностью капризно повелели: – Да вытащи ты из-под меня этот кирпич, какой ты, блин, неловкий...
Борис нагнулся и достал из-под ребристой ягодицы изгаженный, изгвозданный в конец и навсегда томик. Обложка держалась на двух нитках и отвалилась сразу, открыв засаленный и мятый титульный лист с двойным полуколечком от стакана чая.
«Владимир Прикофф. Рыба Сукина. Сидра. Анн Арбор. Иллинойс».
Катц постоял минуту с превратившейся в грязную, жалкую рвань, когда-то абсолютно новой, знакомой ему до слез и боли книгой, а потом сел на пол. Трезвый рядом с пьяной.
О маме, о Дине Яковлевне, он в этот момент не думал вовсе.
Семь лет жизни с Валентиновым, «амюзантнейшим господином», как он сам себя рекомендовал на французский семоке манер, ничего не оставили в памяти Сукина, кроме бесконечной череды городов, непрерывно сменявших один другой, сначала быстро и красочно в южной Европе, а потом однообразно и утомительно в северной Америке. Черепичные крыши Монпелье и цинковые бензоколонки Айовы, песочные камни Рима и анютины глазки Сан-Франциско, словно бестолковая пачка почтовых карточек, частично уже выцветших, стершихся, потерявших углы и склеившихся между собой, бессмысленно отягощали его память и просто не давали чему-то новому и светлому войти и задержаться ни на поверхности, ни в глубине ее. Война и революция, которые, по общему мнению, решительным и необратимым образом повлияли на образ мышления и чувства всякого русского, не отозвались в сердце Сукина ни одним звуком, не вызвали ни единого душевного движения отчасти в виду особенностей умственного устройства самого Сукина, отчасти благодаря постоянной заботе и протекции его опекуна Модеста Ильича Валентинова. Это был приятный внешне и несомненно очень талантливый, как определяли его те, кто собирался тут же сказать о нем что-нибудь скверное, человек. У него были чудесные карие глаза и чрезвычайно привлекательная манера смеяться. Глубоко циничный и аморальный по всем общественным и человеческим канонам, он удивительным образом, основания к тому находя именно в своей грубой, сугубо физиологического свойства философии, мог быть участливым товарищем в жизни и вполне надежным компаньоном в делах. На указательном пальце Валентинов носил перстень с адамовой головой, всегда цветной фуляр вместо галстука и брюки по самой последней европейской моде. Театр счастливо оставался для него много лет и страстью, и источником вполне достойного дохода. Волей случая став одним из первых экспонентов так называемой «русской темы», он успел до войны сколотить недурное состояние, переименовывая в угоду географии свою легкую на сборы антрепризу в берлинскую, белградскую и даже венецианскую. Во время войны, путешествуя с Сукиным по Америке, где краткость расстояния от одного кинотеатра до другого сравнима лишь только с воробьиным милиджем заправок «Стандарт Ойл», расчетливый и быстрый Валентинов не мог не разглядеть завидных коньюктурных горизонтов нового народного искусства. Вернувшись в девятнадцатом в Европу, он основал в живописном Лекивиле под Парижем кинематографическую студию «Инвино» и к началу двадцатых оказался вполне успешным поставщиком малоотличимых одна от другой, но именно благодаря тем же слезам и в тех же местах любимых публикой полнометражных мелодрам с Лялей Сережко в амплуа первой звезды, а также бесконечной серии коротеньких комических лент «Братья Биду в цирке», «зоопарке» и «на том свете».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу