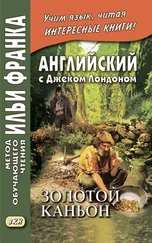— Н-нда.
В ту же секунду он заснул. Посидев перед телевизором, я, чтобы его не будить, вышел в коридор. Он кончался голубоватой стеклянной стеной. Перед ней стояли столик с пепельницей и диван, я сел и позвонил Ире и маме, чтобы не волновались.
— Не могу дозвониться Дашке, — сказала Ира. — Телефон отключает.
— Я ее видел, — сказал я, — она с Володей.
— Что она еще затеяла? Не нравится мне это…
Сидя на диване, можно было смотреть на море и небо, получившие от стекла немыслимую голубизну. Я курил и думал про Дашку. Она затеяла. У каждого свой глагол. Мы с Ирой всегда делали. Дашка затевала. Я всегда уважал тех, кто делал, и не уважал затевающих. Но время изменилось.
Хлопнула ближайшая дверь, молодая женщина вышла и, мельком на меня взглянув, села на диван. Я слышал ее взволнованное дыхание: что-то у нее случилось. Мне казалось, где-то я ее уже видел. Следом вышел жирный мужчина в халате и шлепанцах, картинно, со звуком — эхе-хе-хе — вздохнул и сел рядом. Диван продавился. Женщина потеснилась. Мужчина молчал. Его не смущало, что сидит в халате в коридоре четырехзвездочной гостиницы, где ходят люди. У него были моржовые седеющие усы, и я узнал — это была московская телезвезда, легендарный человек, перед которым заискивали сильные мира сего в Москве и все русские звездочки здесь. Когда-то, когда он был московским неудачником, хоть и своим парнем повсюду, а я — более-менее известным спесивым писателем, мы были хорошо знакомы. Он не работал, но знал всех, а потом стали работать связи, и он круто взмыл к самым вершинам известности. Я испугался, что сейчас он меня узнает. Что я ему скажу? Что нищий маляр? Да для него это что-то вроде рака, проказы и СПИДа! Я отворачивался к окну и, чтобы не покидать убежища, закурил вторую сигарету. Но он, кажется, не обратил на меня внимания.
— Я пойду домой, — сказала женщина.
— М-мм… Эх-х-х… Э-э-э… Как тебя зовут…
Так спрашивают, проснувшись в похмелье, но он не был пьян.
Стало тихо. Женщина, наверно, опешила. Мне-то его штучки были хорошо знакомы, память на имена у него была профессиональная, редкая, а она приняла всерьез и печально сказала:
— Меня зовут Элла, — помолчала и добавила: — Смешно, но, кажется, я в тебя влюбилась.
Он зевнул лениво:
— Врешь.
Она сменила тон, на этот раз удачней:
— Слушай, отвяжись. Что ты пристал? Я же тебя ни о чем не спрашиваю.
— Хамить, значит, начинаем, — констатировал он.
«Хамство» подлежало наказанию. И оно не замедлило:
— Надо душ принять, — сказал шоумен, поднимаясь. — Иди потри мне спину.
Она помедлила и пошла за ним. Я вспомнил, где ее видел, имя Элла подсказало — на газетных фотографиях, которыми сопровождались ее статьи. Я давно перестал их читать, потому что заболевал от развинченного, расхлябанного языка. Эстрадная певица в них именовалась «певичкой», известный московский кинорежиссер — «кумиром продавщиц и парикмахерш», другой режиссер — «кумиром московских снобов», а коренные израильтяне — «фалафельщиками» и «израильскими обывателями». Для усиления сарказма перед каждым таким определением журналистка ставила местоимения «наш» или «некий». Рядом с этой местечковой манией величия шоумен был цивилизатором. Он и приезжал к нам как цивилизатор, делал про нас снисходительно-сочувственные передачи, в которые все мечтали попасть.
В семь часов мы с Болдиным добрались до ресторана. Я хотел проститься, но он сказал:
— Глупо не выпить на халяву. Наверняка кто-нибудь из наших не придет, зачем оставлять водку хозяину?
Я уже знал, что он не большой охотник выпить, но какие еще он мог привести аргументы, выдерживая стиль? Я хотел видеть Дашку. Может быть, она провела время в той же гостинице, где я. В конце концов, я все-таки отец и, может быть, обязан вмешаться. И добираться тремя автобусами, заплатив двадцать шекелей, в то время как она на машине, — это было еще глупее, чем не пить «на халяву».
Болдина тут же перехватил Штильман, а меня позвала Дашка. Она сидела рядом с Володей, и какие-то люди за их столом пересели, освободив место. Сосед Володи говорил с ним по-немецки, а Дашка, забытая мужчинами, отпила глоток из фужера. Я не сомневался, что в фужере водка.
— Все в порядке, папа?
— Да, в порядке. Мы вместе поедем?
— Я старая, папа.
В полумраке ресторана она казалась молодой и очень красивой. А ведь ей уже сорок, сообразил я и удивился.
Звучала тихая музыка — в конце небольшого зала лохматый крепыш в черной рубашке импровизировал на скрипке, перетекая из одной меланхоличной мелодии в другую. Он делал это с кокетливым юмором, и когда Монти перелился в известное танго из эротического фильма, кто-то засмеялся и захлопал. Штильман и еще несколько человек побежали ко входу: Илья и Боря под руки вводили-вносили горбатого старика в черном костюме. Штильман, оттеснив Илью, собственноручно повел старика к пустому столику. В это время за другим столиком поднялся могучий человек с большим животом. Раскинув руки и выставив живот вперед, он пошел на старика, который доходил ему до подмышек и утонул в объятиях. Штильман, не теряя элегантности, подстраховывал сползающего вниз старика и шутливо сетовал:
Читать дальше

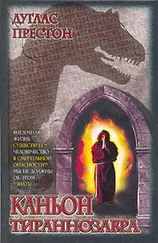
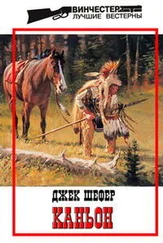




![Шарон Зукин - Культуры городов [litres]](/books/387249/sharon-zukin-kultury-gorodov-litres-thumb.webp)