Исходя из сказанного, я еще раз должен подчеркнуть, что моим единственным учителем был отец; я обучался в мастерской Карла Кантора, долгие годы был его подмастерьем. Я читал книги, где следовал его подчеркиваниям, я слушал его беседы с друзьями, я повторял его суждения – до тех пор, пока не выучился говорить сам.
Что же могли сказать мне учителя в институте, о чем же именно? Институтские учителя ничему не учили, просто совсем ничему; что говорить о цели творчества – помню, я спросил у профессора о чрезвычайно простой вещи, как он рекомендует грунтовать холст, и вызвал раздражение. Я раздобыл в букинистическом старинную книгу рецептов Кареля ван Мандера, грунтовал по его рецептам, но мне было интересно, что же с тех пор изменилось. Институтский профессор воззрился на меня в изумлении несказанном – ни он, ни его коллеги никогда и не думали про ремесло. Холст они покупали готовым в магазине, подрамники им сколачивали в комбинате, а смешивать краски они не умели совсем.
Если и сохранялось в Москве какое-то знание о живописном ремесле, то в частных мастерских, в мастерских полу-опальных художников, не вошедших в нормальную колею советского официального искусства.
В детстве я посещал несколько таких частных студий. В тягучие брежневские времена существовали спрятанные от идеологии углы, где иные художники занимались так называемым «честным» искусством. То был весьма распространенный термин, имелось в виду, что художник рисует не по партийному заказу, не потому, что состоит в профсоюзе художников, а по велению сердца. Еще существовала квартира Роберта Фалька, и его вдова Ангелина Васильевна устраивала не то среды, не то четверги, допуская на просмотр фальковских работ возбужденных интеллигентов. Молчаливые и взволнованные, они сидели на стульях и кожаном диване, а вдова вносила в комнату и ставила на мольберт натюрморты. И казалось – именно в тот момент, когда серенький натюрморт водружали на шаткий мольберт, – что это событие каким-то образом противостоит советской власти за окном. Было ли так на самом деле – сегодня я не вполне в этом уверен. Подобным же образом показывали работы своих родственников наследники Зефирова, Чернецова, Соколова. Я ходил по этим московским квартирам, мы все – я и мои тогдашние друзья – переживали в эти минуты нечто такое, что, вероятно, переживали карбонарии, обмениваясь листовками. Вот оно, сокровенное, потаенное, пережившее гнилой режим, выжившее под спудом. Мы вглядывались в натюрморты, пожимали друг другу руки, мы говорили друг другу: все же искусство выстояло!
Проклятая привычка видеть все словно бы со стороны – а эта привычка служила дурную службу, в особенности в общении с авангардистами и опальными художниками – мешала мне до конца отдаться процессу вольнолюбивого созерцания.
Я вдруг ловил себя на мысли, что все мы, затаив дыханье, разглядываем пейзаж с березками, или интерьер с креслом у торшера, – разглядываем произведения ничем, в сущности, не примечательные. Ну что же в этом такого свободолюбивого? – спрашивал я себя, да и окружающих спрашивал о том же, порой самым бестактным образом.
Помню посещение вдовы одного мастера, которая показывала розовые акварели замученного режимом супруга. Все было правильно, все как надо: низкий потолок блочной квартиры, печальные лица, траурный портрет мастера на стене. И все пристально вглядывались в акварели и молчали, молчали. А если и говорили, то отрывочные, скупые слова: дескать, страшна наша Россия. А я недоумевал: что за основания идти на плаху за изображения розовых березок. Сталину, очевидным образом, от этих картин ни горячо, ни холодно не сделалось. Да и разве отличаются эти картины от других – тех, которые рисуют адепты режима.
Ах, то была честная живопись. «Честное искусство» – то был пароль тех лет, распространенный тогда так же широко, как сегодня термин «актуальное искусство». И столь же бессмысленный. Искусство не делится на «актуальное» и «неактуальное», поскольку всякое подлинное искусство актуально. А что касается честности – весьма трудно сказать, было ли то домашнее рисование честным по отношению к ненавидимому режиму. Поразительно, но за все годы так называемой коммунистической диктатуры не было создано ни одного холста, ее обличающего, рассказавшего о лагерях.
Назову лишь два исключения. Существует зловещее «Новоселье» Петрова-Водкина – изображены пролетарии, въезжающие в разоренную квартиру, вероятно, квартиру репрессированного. Новый хозяин квартиры похож одновременно на Ленина и Сталина – курит трубку, придерживая ее у губ сталинским жестом, и носит монгольскую бородку, как Ильич. Петров-Водкин ничего не делал случайно, он создал образ пролетарского хозяина, слепив его из двух типажей. За два года до этой картины Петров-Водкин написал портрет Ленина, практически точно воспроизведенный в картине «Новоселье». Впрочем, данной вещью критический пафос ограничился. Есть у Петрова-Водкина еще холст, изображающий испуганную семью, ждущую ареста; вещь, написана в тридцать четвертом году, из осторожности поименована «Тревога. 1919 год» – и рассматривать ее в контексте критики режима не получается: художник оценивается в меру смелости своего поступка. Есть также паукообразный Ленин, командующий парадом, его изобразил Климент Редько – и это, пожалуй, все, не было больше критических холстов. Тот же Редько кончил свою карьеру рисованием узбекских пионерок – весьма унылые картинки. Не появилось никого, кто бы действительно написал обличающие режим картины, не возникло ни Гойи, ни Домье, ни Делакруа. Никто не нарисовал «Расстрел 3-го мая», «Семью на баррикадах», «Резню на острове Хиос». Была в стране Колыма, унесшая жизней не менее чем Герника, – но вот холста «Колыма» не написал никто. И понять, почему так – невозможно.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу






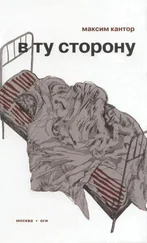


![Максим Кантор - Чайник Рассела и бритва Оккама [сетевая публикация]](/books/435158/maksim-kantor-chajnik-rassela-i-britva-okkama-sete-thumb.webp)

