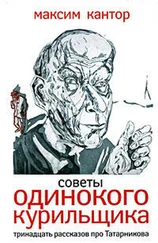Назову еще историка Сергея Шкунаева и итальянского философа Тони Негри. Говорить с ними всегда было большой радостью. Они отличались от Витторио Хесле уже тем, что оба отдавали дань быту и жизни (Витторио, как кажется, живет вне быта, так же как мой отец). И Тони и Сергей принадлежат к тому типу людей, что любят застолья – с Тони мы не раз пили вино на площади Санта Мария Новелла в Венеции, однажды я нарисовал его портрет. Это был простой карандашный рисунок – соавтор Тони, Майкл Хардт поспорил со мной, что я не нарисую портрет за десять минут. Портрет же Сергея Шкунаева я оставил прежде всего в книге «В ту сторону», но также и в большом романе – он изображен под именем Сергея Ильича Татарникова. Сережа действительно походил на татарник, так как описал его Лев Николаевич в «Хадже Мурате»: неуживчивый, неудобный, непреклонный в своих мыслях и пристрастиях. Ни карьеры, ни состояния этот человек сделать не сумел, он жил в бедности, упрямый и достойный, побежденный жизнью, из тех, кого новое поколение бизнесменов презрительно именует «лузерами». Он проиграл, и мне радостно сознавать, что свой проигрыш он встретил как победу.
Прежде – в глухие брежневские годы – независимых художников не выставляли, были разве что полуподпольные выставки. Независимые (то есть независимые от признания властью, но зависимые от мнения иностранных знатоков и авторитетов в своей среде) создавали собственные правила, позволяющие учредить иерархию внутри своей социальной страты. Необходимыми компонентами биографии были коллективные манифесты, групповые независимые выставки, иными словами – участие в альтернативном художественном обществе. Никто не собирался быть вполне изгоем, хотя иные и называли себя изгоями. Вовсе выпасть из социума не хотели, нет, перетекли из одной общественной страты в другую, столь же строго оформленную. Как во всякой иерархированной среде, довольно быстро критерием стала не сама работа – но лояльность к среде. Преувеличивали значение товарища, зная, что он ответит тем же, – и упрекнуть за это трудно: так выживали.
Я был едва ли не самым молодым участником подпольных выставок и невероятно гордился. Мы привозили свои опусы в подвалы и на чердаки, звали восторженных зрителей, нам казалось, мы создаем историю.
Художники так называемого андеграунда вспоминают подпольные выставки как события героические. Время это достаточно успешно мифологизировано, участники рассказали много потрясающих воображение историй, почти все эти рассказы – лицемерие и вранье. Героического было крайне мало. Практически вся энергия уходила на дикое пьянство, хвастовство, полуночные посиделки, общение с иностранными корреспондентами. Никакого академически продуманного труда в те годы не существовало, более того, само понятие труда было извращено. Трудом стали называть одномоментную акцию – вопль, свист, линию, небрежно проведенную по доске. Выставляли недоделанные, среднего качества, наспех намалеванные работы, девяносто девять процентов которых не имело никакого смысла. Но каков же контекст! Никто из творцов ничего не читал, кроме журналов по современному искусству и двух случайных книг, это были невежественные, амбициозные люди – но люди красивые и страстные, убежденные в интеллектуальной значимости сделанного. И действительно, с оппозиционным режиму искусством происходила любопытная вещь – оно, подобно зеркалу, отражало значение того, что опровергало; так бумажные деньги объявляют себя эквивалентом стоимости товара. Бессмысленные поделки наполнялись исключительно значимым содержанием, противостоя продуманному советскому режиму: историческое значение социалистической диктатуры как бы присваивалось теми, кто ее отрицал, стоимость отвергнутого постулата присовокуплялась к опровержению. И очень скоро протестное андеграундное творчество стали называть «новым искусством», «вторым авангардом», эта деятельность обрела статус классики. То была виртуозная интеллектуальная спекуляция, завершившаяся крайне удачно – то есть, как сказали бы теперь, это была «удачная сделка». Многих авторов позвали работать на Запад, в том числе позвали и меня. Мне несказанно повезло, мои картины сразу же приобрели музеи, сначала один музей в Германии, потом еще и еще, потом музеи в других странах; то была удачная карьера. Я ходил по чужим городам пьяный от капитализма и успеха. Я ведь это заслужил, говорил я себе, разве нет?
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
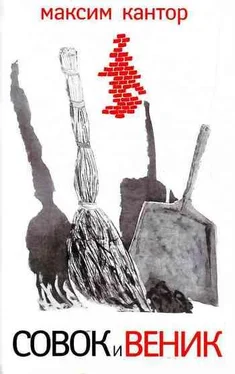








![Максим Кантор - Чайник Рассела и бритва Оккама [сетевая публикация]](/books/435158/maksim-kantor-chajnik-rassela-i-britva-okkama-sete-thumb.webp)