Только когда началась бомбардировка Белграда в 1999-м – я очнулся окончательно. Мир менялся стремительно, я вдруг почувствовал себя слепцом, изображающим перед другими художника, то есть того, кто воплощает острое зрение. В тот апрельский день я сидел в холле гостиницы с очередным коллекционером – после Венецианской биеннале их появилось много, и я упивался минутами славы. И ведь предлагал я не пустые картины (так говорил я себе), отнюдь нет – я показывал людям историю моей родины, проблемы тоталитаризма. Помню, мы обсуждали как раз что-то такое свободолюбивое с богатым шведом в холле гостиницы – и на экране большого телевизора возникло изображение Белграда. Мне стало нестерпимо стыдно – за бездарно прожитые последние годы, за фальшивое соревнование с фальшивыми людьми, за всю эту художественную карьеру, бесконечное вранье, вранье, вранье.
Краснофигурные композиции
Может быть, самым важным из того, что сделал, являются большие композиции – «Государство», «Восстание пигмеев», «Две версии истории», «Руины империи», я бы определил эти картины как «краснофигурный» период, термин, разумеется, использую по аналогии с античными краснофигурными вазами.
Рисуя эти композиции, я исходил из простой посылки: я анализирую тоталитарное государство, изображаю жестко сконструированные страты, то есть как бы иллюстрирую Платона – что же более соответствует Платону, нежели эстетика краснофигурной вазы? Я писал структуру Государства, концентрические круги общественных страт, детерминированный казарменный мир. Поскольку красный цвет – есть цвет России и революции, мне показалось крайне уместным представить наше общество в виде краснофигурной вазы – там, где изготовляют идеи социальных устройств, могла быть изготовлена и такая красивая – хотя и бесчеловечная – поделка. Во всяком случае, можно было попытаться представить казарменную идею в виде прекрасной конструкции.
Картина вообще должна быть красивой. Предмет изображения может быть печальным, даже трагическим, но картина обязана быть красивой – в этом и есть смысл искусства, таким образом оно и выполняет свою задачу – преодолевает беду. Крестные муки Спасителя – тема невеселая, однако изображения страданий сделались темой картин, которые прекрасны и даже нежны. Значит надо писать так, чтобы самый отчаянный сюжет, самое болезненное высказывание перешли в область эстетики – и перевели проблему из бытовой в метафизическую. В «Расстреле» Гойи есть фигура казнимого – он раскинул руки, подобно Христу на распятии. Пронзительный белый цвет его рубахи горит как огонь – своим сиянием этот свет изживает горе события, выжигает страх, наделяет силой. Я бы хотел суметь написать такой красный, чтобы он горел, как этот огонь.
Я старался нарисовать символ, обобщенную формулу общества, но сделать это предельно реалистично – как по отношению к тому, что происходит, так и по отношению к реальности самой концепции государства, сформулированной еще в период краснофигурных ваз. Мысль – она ведь имеет форму, она есть эманация, исходящая от эйдоса, от высшего разума, и оформляющая себя через предмет или событие, через чувство, через логическую конструкцию, которая в свою очередь имеет зримое выражение. Например, можно нарисовать концепцию Маркса, данная концепция имеет зримый образ – в этом заявлении нет ничего экстраординарного. Скажем, поэт Данте явно и осязательно представлял себе устройство вселенной, настолько явно, что художнику Боттичелли большого труда не составило повторить дантовский образ – и это дает нам убедительный пример того, что подлинно ясная мысль поддается изображению. И разве самый вид человека (созданного, как известно, по образу и подобию Божьему) не доказывает того же самого?
Иными словами, художник должен проделать путь обратный тому, который описывает Платон, говоря о движении воспоминаний. По Платону, художник изображает тень тени, поскольку самый предмет есть лишь воплощение тени, отброшенной на экран нашего сознания (так назовем платоновскую пещеру). Столяр делает стол, который воплощает идею стола, а художник создает представление о воплощении идеи стола, или – изображает тень тени. (Сам того не ведая, Шекспир воспроизвел это движение теней в диалоге Горацио и Гамлета: «Значит, наши нищие суть лишь тени теней»).
Христианский художник исходит из того, что образ являет собой полноправное единение как самой идеи, так и ее телесного выражения – это нам явил своим бытием Христос. Собственно говоря, художественный образ проживает тот самый цикл, который завещан нам земным бытием Спасителя – и вне этого цикла христианского искусства не существует.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу






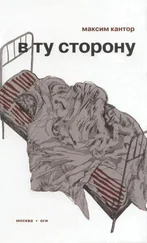


![Максим Кантор - Чайник Рассела и бритва Оккама [сетевая публикация]](/books/435158/maksim-kantor-chajnik-rassela-i-britva-okkama-sete-thumb.webp)

