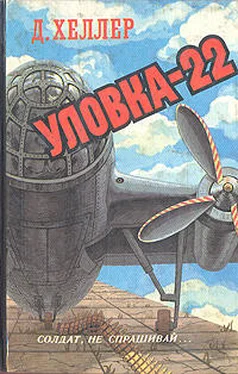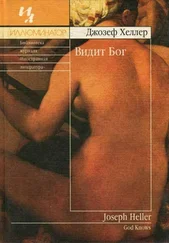— Ты мне не сэркай.
— Слушаюсь, сэр.
— И когда вы не сэркаете, вы обязаны прибавлять «сэр», — отчеканил майор Меткаф.
Клевинджер, конечно, был виновен: иначе как же можно было бы его в чем-то обвинять! И поскольку единственный способ доказать его виновность заключался в том, чтобы признать его виновным, так и было сделано. Клевинджера приговорили к пятидесяти семи штрафным маршировкам. Попинджея посадили под замок — чтобы впредь было неповадно… А майора Меткафа отправили на Соломоновы острова закапывать трупы. По субботам Клевинджер был обязан пятьдесят минут шагать взад и вперед перед домом начальника военной полиции с незаряженной винтовкой, оттягивающей плечо.
Все это совершенно сбило с толку Клевинджера. На свете происходило много странных вещей, но самым странным для Клевинджера была ненависть — звериная, неприкрытая, не знающая пощады ненависть членов дисциплинарной комиссии; она, как тлеющий уголь, светилась в их злобных прищуренных глазах. Клевинджер был потрясен, обнаружив это. Будь их воля, они бы его линчевали. Три взрослых человека ненавидели его, совсем еще мальчишку, и желали ему смерти. Они ненавидели его еще до того, как он вошел, ненавидели, когда он стоял перед ними, ненавидели его, когда он ушел, и, даже разойдясь по домам, унесли в душе свою ненависть к нему, лелея ее как сокровище.
Йоссариан всячески предостерегал его еще накануне вечером.
— У тебя нет никаких шансов, малыш, — хмуро говорил он Клевинджеру. — Они ненавидят евреев.
— Но я-то не еврей, — отвечал Клевинджер.
— Это не имеет значения. Они всех ненавидят. Вот увидишь, — сулил Йоссариан, и он был прав. Трое ненавидевших Клевинджера людей говорили на его родном языке и носили форму его родины, но их лица дышали такой непреклонной враждебностью к нему, что он вдруг понял: нигде в мире — ни в фашистских танках, ни в самолетах, ни в подводных лодках, ни в блиндажах среди нацистских пулеметчиков, артиллеристов или огнеметчиков, даже среди самых опытных зенитчиков противовоздушной дивизии Германа Геринга и самых мерзких подонков из мюнхенских пивных, — и вообще нигде нет на земле таких людей, которые ненавидели бы его сильнее, чем эти трое.
Майору Майору Майору пришлось туго с самого начала.
Подобно Миниверу Чиви, он родился слишком поздно, а точнее, на тридцать шесть часов позднее, чем следовало. Полтора суток маялась при родах его мать, хрупкая, болезненная женщина, и в результате обессилела настолько, что не смогла переубедить мужа, когда они заспорили, как назвать ребенка. Ее супруг, мужчина хмурый, ростом с каланчу, носивший грубые башмаки и черный шерстяной костюм, вышел в больничный коридор с мрачной решимостью человека, готового биться за свое до конца. Он без раздумий заполнил свидетельство о рождении и с бесстрастным лицом вручил документ дежурной медсестре. Сестра не промолвила ни слова, взяла бумажку и ушла. Он посмотрел ей вслед, пытаясь догадаться, что у нее надето под халатом.
Вернувшись в палату, он подошел к жене. Она лежала под одеялом разбитая, сморщенная, бледная, высохшая, как прошлогодний капустный лист, и от изнеможения не могла пошевельнуть и пальцем. Кровать ее стояла в дальнем углу палаты, у давно не мытого окошка с разбитыми, грязными стеклами. Сильный дождь неутомимо полосовал землю, день был унылый и промозглый. Самое время умирать, что и делали в других палатах белые как мел люди с посиневшими губами. Мужчина стоял у кровати, потупив взгляд.
— Я назвал мальчика Калеб, — объявил он наконец тихим голосом. — Как ты хотела.
Женщина не ответила. И мужчина медленно улыбнулся. Он здорово все это подстроил: жена спала. Покуда она лежит в бедной сельской больнице, она не узнает, что он ей солгал.
Вот такое-то жалкое начало и привело в конце концов к появлению на Пьяносе никудышного командира эскадрильи, который тратил теперь большую часть рабочего дня на подделывание подписей Вашингтона Ирвинга под официальными документами. Чтобы не быть пойманным, майор Майор Майор работал левой рукой. Начальственная должность, которую он занял не по своей воле, защищала его от вторжения в палатку посторонних лиц. К тому же он изменил свою внешность, нацепив фальшивые усы и темные очки, — дополнительная страховка на случай, если бы кто-нибудь надумал подглядывать сквозь уродливое оконце, из которого какой-то вор вырезал кусок целлулоида. Между этими двумя моментами — рождением и первой удачей в карьере — лежало тридцать с лишним безрадостных лет одиночества и разочарований.
Читать дальше