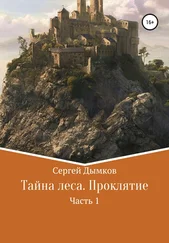Встав на костыли, он дошел до подоконника и, с трудом устроившись на нем, закурил в раскрытое настежь окно. Редкие капли дождя барабанили о жестяной карниз, и эти глухие неясные звуки, перемешанные с шумом обдуваемой июльским ветром листвы, были полны смутной щемящей тоски и одиночества.
Воронину было двадцать шесть лет. И в свои двадцать шесть он должен был заново учиться ходить, любить, прощать и ненавидеть. Его контуженной войной памяти предстояло умереть для того, чтобы другой, обретший второе рождение человек мог приспособиться к новой, такой противоречивой действительности.
Но память не отпускала, и потому многое не складывалось в этой непривычной для него жизни. Он думал об этом, об убитых товарищах, о будущей любви. Какой она будет и будет ли вообще?
Некстати вспомнилось, как пытался ухаживать за сестрами в госпиталях и как они недоуменно смотрели на него. В эту ночь ему не предстояло заснуть. В больницу он приехал совершенно разбитым и впервые за все время решил воспользоваться лифтом.
Он долго вызывал лифт, жал и жал кнопку, наконец лифт опустился, распахнулись двери, и Воронин шагнул внутрь.
– Куда?!
Он даже не запомнил ее лица – что-то властное, немолодое.
– В физиотерапию мне, – улыбнулся он, – на четвертый этаж.
– Ну, а ты кто такой-то? Главврач, что ли, чтоб я из-за тебя одного лифт гоняла…
– По-моему, это входит в ваши обязанности, – пересиливая себя, вымученно улыбнулся он.
– Ну, ты мне еще про мои обязанности расскажи…
– Мне тяжело подниматься. И стоять тяжело, – жалко, просяще и ненавидя себя в эту минуту, сказал он.
Лицо расплывалось. На нем было невозможно различить отдельных черт – они сливались в единую массу, и эта масса сказала:
– Ладно, не растаешь. Наберем народу – поедем. Обождешь пока…
Это было все. Последний предел. Как тогда, в Грозном, когда нужно было рвануться вперед и стрелять, стрелять, бить из автомата, и выжить, и победить.
Воронин оперся на костыли, оттолкнулся и шагнул в глубину лифта.
– Назад! Я сказала: назад!
Он шел напролом, но там, куда он шел, были сильнее его. За ними стоял натиск, правда облеченного властью быдла, еще никогда и никому не отдавшего ни пяди своего всепростирающегося могущества.
Его толкнули. Он упал. Ударившись о мраморный пол, унизительно задребезжали костыли. Он попытался встать и не смог. И все-таки встал и, не выдержав равновесия, рухнул.
– Сука тифозная! Тварь!
Ему казалось, что он кричит. Но он не кричал – плакал, по-детски размазывая слезы.
К нему подбежали, попытались поднять, а он сидел на полу и плакал. Ему хотелось сказать им, что он, командир десантной роты старший лейтенант Воронин, честно воевал за Отечество, что он потерял ногу не по пьяной лавочке, а в тяжелом кровавом бою, что его четыре месяца резали по госпиталям, что все это он делал ради них…
И вдруг он понял, что нет никакого Отечества, ни людей вокруг него, ни святой правды в той бойне, где их тысячами перемололи гусеницы бронемашин…
А есть безногий калека, обрубок, старший лейтенант никогда не востребованного запаса Воронин, которого можно толкнуть, ударить, размазать в грязь, которому уже не выстоять в этой скотской, безразличной к нему жизни.
– Вставайте! Ну, вставайте же, молодой человек…
Он боялся встать. Он не знал, как жить дальше.
1995
Они были знакомы много лет.
Он знал все ее первородные и приобретенные грехи: и неряшливую прическу, и пузыри на колготках, и близорукий прищур глаз сквозь диоптрии линз, и упрямство, и неестественно звонкий голос, и странную, немного нервную походку, и легковесность в ощущении жизни.
Все это и забавляло и раздражало его. И когда он говорил о чем-то серьезном, о чем невозможно было не сказать, а она с машинальной готовностью кивала в ответ, он понимал, что это совершенно не занимает ее, и соглашается она только потому, что ей все равно, с чем соглашаться.
В эти минуты он ее ненавидел.
Она почти не следила за собой, но иногда, следуя интуитивно-безупречному вкусу, одевалась элегантно и броско, изысканно накладывала макияж, и тогда он думал: «Нуну, смой с тебя, чертовой куклы, весь блеск: что останется?» И чем больше она раздражала его, тем чаще и неотступнее он думал о ней. Ее грехи уже становились необходимы ему. Хотелось быть около нее, говорить о чем угодно, ощущать запах ее недорогих духов.
Хотелось сказать какую-нибудь резкость и увидеть неожиданные слезы в ее глазах. Или случайно коснуться руки и на секунду, чуть больше дозволенного задержать ее…
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
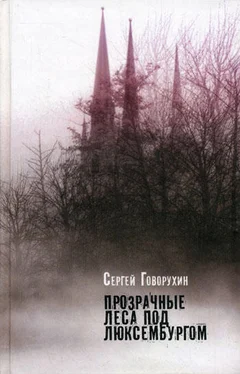



![Сергей Сотари - Орден леса. Другая правда [СИ]](/books/420771/sergej-sotari-orden-lesa-drugaya-pravda-si-thumb.webp)
![Сергей Сотари - Орден Леса. Обретение мести [СИ]](/books/426603/sergej-sotari-orden-lesa-obretenie-mesti-si-thumb.webp)