Был ранний вечер; солнце спряталось за кроны деревьев; запах цветущей липы перебивал даже вонь от выхлопных газов; Кишинев начинал мне нравиться. Скитания по кладбищу нас с Юлианой странно сблизили, и мы отправились в кафе, перед которым был припаркован точно такой же «гангстер-мобиль», как и перед «Макдоналдсом», только бизнесмена поблизости не оказалось. Я рассказал Юлиане о спектакле с участием одного такого бизнесмена и его дамы, который мы недавно видели; она выслушала меня с интересом, но ничего не сказала. Мне нравилось, что она умеет молчать. Совсем как Рора — он если говорил, то всегда по делу, не растекаясь мыслью по древу. Было что-то величавое в их молчании; Юлиана молчала не из-за недостатка слов, а намеренно. Как это у них получается? Меня тишина пугала до смерти — как только я замолкал, возникало опасение, что больше я никогда не смогу ничего сказать. Вот почему я тут же продолжил разговор:
— Вам нравится Кишинев?
— Да, вполне.
— Никогда не думали отсюда уехать?
— Думала.
— Ну и почему же не уезжаете?
— А куда мне ехать?
— В Америку.
— Для этого нужна виза.
— Я, скорее всего, мог бы с этим помочь.
— Вся моя семья здесь. У мужа хорошая работа.
Она прихлебывала кофе; у нее есть муж; она задумчиво сгибала и разгибала пластиковую ложечку. Я мучительно подыскивал слова и ничего разумного не мог придумать.
— Что вы ощущаете, когда заходит речь о погромах? — спросил я.
— Что я ощущаю?
— Да. Что вы ощущаете при упоминании о погромах?
Молчание. Потом она сказала:
— Этот взрыв звериного антисемитизма оставил неизгладимый след в памяти еврейского народа.
Я фыркнул, но она, похоже, не шутила. Тогда я сказал:
— Нет, я серьезно. Что вы — вы, Юлиана, — чувствуете? Что вы чувствуете, когда об этом думаете? Злость? Отчаяние? Ненависть?
Она покачала головой, показывая, что вопрос ей не понравился.
— Понимаете, я ведь босниец, — сказал я. Она никак не прореагировала на это известие. — Так вот, когда я думаю о том, что произошло в Боснии, то испытываю какую-то мерзкую ярость, дикую ненависть ко всему миру. Иногда даже воображаю, как разбиваю коленные чашечки Караджичу, военному преступнику. Или крушу кому-то молотком челюсть.
Я понятия не имел, знает ли она, что происходило в Боснии. Мэри, например, не выносила разговоров про войну, геноцид, массовые захоронения, слушать не хотела, когда я говорил о своем обостренном чувстве вины, связанном со всем этим. Юлиана, впрочем, перестала качать головой и внимательно меня слушала. Размышляя об этом сейчас, я допускаю, что мог ее напугать.
— Я представляю, как он на полу корчится от боли, а я пытаюсь размозжить ему локти, — продолжал я. — Вам никогда не хотелось сломать кому-нибудь челюсть?
— Странный вы человек, — сказала Юлиана. — Я думала, вы — американец.
— Да, нынче я и американец тоже. Там тоже хватает челюстей, которые бы мне хотелось сломать.
Из соседнего магазина по продаже мобильных телефонов вышел знакомый бизнесмен и, не спеша, выпятив грудь, направился к машине. На этот раз я рассмотрел его глаза — бледно-голубые, как выцветшее небо. Будь у меня молоток, я заехал бы ему промеж этих наглых глаз, расшиб лоб, сломал бы нос. Но сразу подумал: «Это же я. Я мог бы быть им. И тогда бы я расшиб собственный лоб. Вот это было бы здорово!»
— Мой дедушка, — сказала Юлиана, — служил в Красной армии. В том самом взводе, который водрузил флаг над рейхстагом. Он был единственным евреем в батальоне.
Она ничего больше к этому не добавила, вероятно посчитав, что сказала уже достаточно. Гангстер запрыгнул в свой «гангстер-мобиль» и умчался. Человек предполагает, а Бог располагает.
— Когда я думаю о погромах, — сказала Юлиана, — я испытываю огромную любовь к этим людям. Когда я думаю о моем дедушке, то размышляю о том, как, наверно, ему было тяжело, каким счастливым и одиноким он чувствовал себя, стоя на крыше рейхстага. Когда я думаю обо всем об этом, я его люблю.
— Понимаю, — сказал я.
Однажды у Мэри на операционном столе умер больной. Это был член банды гангстеров, раненный в перестрелке с другой бандой. Пуля застряла у него в лобной доле мозга; когда его доставили в больницу, он был в сознании. Разговаривал с Мэри, поинтересовался, как ее зовут, назвал свое имя — ирония судьбы! — Линкольн. Но она ничего не могла сделать; он умер под ножом. В тот вечер она сидела в кресле в гостиной, как королева на троне, минут пятнадцать глядя на одну и ту же страницу журнала «People», пока не заснула, уронив голову на плечо. Я разбудил ее и пристал со своими назойливыми вопросами, вроде «Что ты чувствовала, когда он умер?» или «Что ты думала в тот момент?» Тогда Мэри поднялась и, волоча за собой по полу, как шлейф, плед, пошла в спальню и захлопнула дверь перед самым моим, лезущим во все дырки, носом. Я дико разозлился, стукнул по двери кулаком, отчего она со стуком отлетела, — похоже было, я ломлюсь в спальню, — и увидел, что Мэри лежит в кровати, повернувшись лицом к стене и накрывшись с головой одеялом. «Ты что, никогда не злишься? — закричал я. — Такого не может быть. Ты должна злиться, должна хоть кого-нибудь ненавидеть. Почему, черт побери, ты не такая, как все?» Позже я нехотя извинился перед ней, а она — передо мной. «Когда у меня на руках умирает пациент, — растерянно объяснила она, — я чувствую только одно — что он мертвый».
Читать дальше
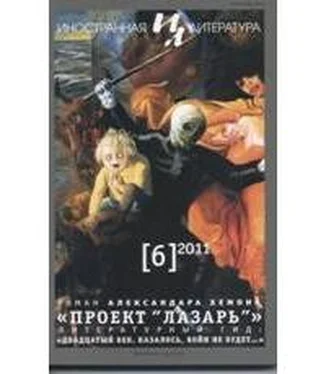



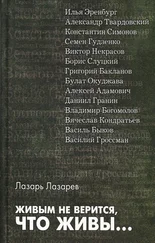

![Андрей Земляной - Проект «Оборотень» - Проект «Оборотень». Успеть до радуги. День драконов [сборник litres]](/books/384831/andrej-zemlyanoj-proekt-oboroten-proekt-oborot-thumb.webp)
![Лазарь Лазарев - Шестой этаж [1993]](/books/394571/lazar-lazarev-shestoj-etazh-1993-thumb.webp)
![Лазарь Лагин - Детская библиотека. Том 46 [Лазарь Иосифович Лагин]](/books/401001/lazar-lagin-detskaya-biblioteka-tom-46-lazar-io-thumb.webp)

