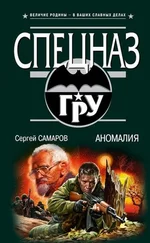Вечность спустя грохнули аплодисменты, и Камлаев, сдернув плащ, со сверкающим от пота торсом вышел на поклон — в окружении легкой кавалерии девиц, которых наконец-то соизволили выпустить из клеток.
Ликующая толпа (никогда бы не подумал, что в этом зале может уместиться столько народу) хлынула к оркестрантам и, подхватив, понесла Камлаева и Листимлянского на руках.
— На Горького! — раздался чей-то клич.
Возвышаясь над толпой, как сущий магараджа, Камлаев уговаривал всех утихомириться и разойтись по домам. В прошлой раз все закончилось разгоном и избиением обезумевшей публики, которая, как и сейчас, затеяла поход на Пешков-стрит — как водится, с веригами тромбонов и барабанов и бряцающим обозом плодово-выгодного вина. И точно так же сейчас крутились неподалеку безошибочно опознаваемые субъекты в штатском (в как будто намертво приколоченных к темени кепчонках и шляпах). Крутились и готовы были захватить под белы рученьки музыкантов — возможно, и не сами, а вызвав полуроту лопоухих парней в мундирах цвета маренго. При виде воздетой камлаевской руки толпа вдруг волшебным образом утихомирилась, как если бы Камлаев и в самом деле был ее пастырем.
— Друзья, я понимаю ваше стремление отдать музыкантам все положенные почести, — сказал он тихо и раздельно. — Но в настоящий момент мы едва ли располагаем помещением, которое могло бы вместить всех желающих. И поэтому я настоятельно рекомендую всем участникам Фронта Сопротивления разбиться на более мелкие отряды и перейти на подпольные формы борьбы. С своей стороны ответственно должен заявить, что мы намереваемся спуститься в метро для того, чтобы добраться до логова одного нашего товарища. Абсолютно всех мы с собой забрать не можем. И поэтому давайте сделаем исключение для первых рядов… да вот так, не разделяя друзей на старых и новых…
Толпа подчинилась и начала переходить на подпольные формы борьбы, но только после того, как доставила своих героев непосредственно к спуску в метро.
Дальнейшее закружилось в вихре ожесточенных дискуссий и запрещенных удовольствий. В вагоне Ленька Голубев продолжил выдавать на саксофоне кожесдирающие пассажи. Члены «Конгломерата» принялись обжигать свои слизистые изнутри, благо водки и «краски» имелось в избытке. Девицы, так и не стершие со своих прекрасных лиц и выразительных ног мазутные разводы, визжали и клятвенно обещали стать источником вдохновения для новых Сати и Пикассо… Обосновались в квартире у одного художника-бульдозериста и, разлегшись на лоснящихся, засаленных коврах, на грязно-желтых шкурах полярных медведей, завели бесконечные диспуты: о степени пассионарности русского народа, пропущенного сквозь мясорубку сталинских лагерей, о преимуществах музыки темброзвучностей над безнадежно устаревшей техникой коллажа, о выразительных средствах французской новой волны и итальянского неореализма и, наконец, о приемах игры на лингаме в контексте динамичного развития искусства фелляции.
Камлаев, упивавшийся триумфом своего инструментального театра, выбирал, какую именно из чумазых «королев бензоколонки» затащить в постель, и безвыходно страдал от невозможности обладать всеми сразу.
Домой он вернулся, нет, не наутро (наутро он оказался в Ленинграде), вернулся «как только, так сразу», как, собственно, и обещал, — невесомо взлетев по лестнице, толкнул незапертую дверь и вошел в квартиру. Отца его уже не было.
Об отце как-то все моментально забыли — все те, кто стоял перед ним навытяжку, все те, кому формально он верой и правдой служил. Кортеж правительственных «Волг» получился обрезанным, куцым, а «Чайка» была одна. Настоящий кортеж был другой — из полудюжины автобусов, набитых рабочими. Широкоплечими, кряжистыми, груболицыми мужиками, с тяжеленными ручищами и багровыми затылками — одним словом, представителями того типа людей, на которых, взглянув, сразу скажешь: работяга. Автослесари, водители-испытатели и начальники сборочных цехов — таким почетным караулом отец остался (без «бы») доволен. Они-то и подняли на плечи гроб. Камлаев сперва поразился их душевной окаменелости, обыкновенному выражению их лиц, с каким они, должно быть, стояли у конвейера или даже хлебали щи, но потом он понял… Услышал, как они произносят фамилию отца. Увидел, как они смотрят на него, на Матвея, будто стараясь предположить в нем хотя бы малую часть той внутренней силы, которую знали они за отцом и которая склоняла их к безусловному повиновению. Они — уважали. Они были здесь честнее всех прочих.
Читать дальше