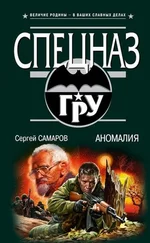— Да что ты такое говоришь? Да ты в своем ли уме? Да ты же сильный! Да ты меня еще в бараний рог закрутишь и за пояс заткнешь! Ты что это, ты с кем себя сравнил — с убогими? Я тебе не разрешаю, понял? И завтра же я поведу тебя в больницу!
— Ну, поведи, поведи. Хочешь, чтобы папенька еще год проболтался между кроватью и могилой, — тогда поведи.
— Да где ты болтаешься, где? Нигде ты не болтаешься! Перед собой я вижу тебя такого, каким ты был всегда, и я смотрю на тебя и верю, что ты никогда и нигде не будешь у меня болтаться.
— Да нет, Матвейка, я уже не такой, как всегда. Ты что же думаешь, раз я не забился от страха под кровать и не вою оттуда, как волк на луну, то это означает, что я такой же, как и был? У меня нутро горит, Матвейка. И под кровать забиться очень хочется. В какой-нибудь угол, где нет никого. Все, отваливай… потрепались, и хватит.
— Я от тебя так просто не отстану.
— Ну, это как угодно.
Он вышел из отцовской комнаты несолоно хлебавши, вышел с тем же, с чем и вошел, со все той же обязанностью убедить отца… «Ну, завтра я точно с него не слезу, — сказал он себе, — поедет, как миленький, у меня в больницу», — и даже улыбнулся этой своей несокрушимой уверенности, которая никогда его не подводила: если он говорил «сделаю», то, как железное правило, делал. Но вдруг и с этой уверенностью в нем что-то мгновенно, неуловимо переменилось. До Матвея дошел наконец смысл отцовской отповеди; этот смысл проник в него исподволь, проточил в мозгу ноздреватые ходы, охладил и высушил. Разлился по конечностям, по жилам, по нутру еще ни разу не испытанной прежде апатией. «Завтра», — сказал себе он, как будто отмахиваясь от этого завтра, как будто стряхивая с плеча трясущую его, Камлаева, руку.
Он никогда бы себе в этом не признался, но в самой потаенной, темной глубине он почему-то посчитал свою ответственность перед отцом избытой и долг перед ним — исполненным.
Он вошел к себе и упал на постель ничком, понимая, что еще секунда — и он заснет, что называется, «без задних ног»… «Завтра»… «Завтра» он не заговаривал с отцом ни о чем.
«И Ангелу Лаодикийской церкви напиши: знаю твои дела; ты ни холоден, ни горяч; о, если бы ты был холоден или горяч! Но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст Моих».
Он прокрался мимо спящей Нины и вышел из номера. Уже было далеко за полночь, когда он прошел по пустому коридору, на стенах которого кривлялись грошовые абстрактные полотна, и, спустившись вниз, направился к круглосуточным огням отельного ресторана. Подойдя к барной стойке, спросил бутылку скотча, взял ее под мышку и вышел на воздух. В отвратительный своей рукотворной прихотливостью альпийский сад. Из-за черных веток вышел диск луны, весь изрытый темными оспинами, и Камлаев зашагал по направлению к огромному прямоугольнику лунного света, в котором стояла плетеная скамейка.
Развалившись и сделав первый глоток, он подумал, что есть в этой жизни какая-то высшая справедливость тела, и за каждое совершенное — вольно или невольно — предательство, за каждый отказ от любви твоя собственная плоть расплачивается последующей неспособностью любить, оплодотворять.
Через месяц после своего побега из больницы отец уже не вставал с постели. Он дочитал «производственные повести» своего «махрового соцреалиста» Платонова и больше уже ничего не читал. Мать уже не отходила от телефона, вызывая на дом врачей и чуть ли не каждую минуту созваниваясь с Обуховым. Ее беспокоило, что отец ничего не ест. А он оставался таким же — с осмысленным, въедливо цепким взглядом, с могучими ручищами, с железными буграми двухглавых и трехглавых. Не вставая с кровати, поднимал за одну ножку стул. Вот только материться стал чаще и крепче, и все чаще к этому матерку примешивалось зубовное скрежетание.
Один раз отец поднялся, вышел на балкон и принес оттуда свой рыбацкий деревянный ящик. Тяжеленный, квадратный, крашенный болотного цвета краской. В этом ящике хранились его сокровища — те загадочные инструменты и приспособления, к которым он никому не позволял прикасаться и, прикоснувшись к которым, семилетний Камлаев узнал, как скверно пришито к его маленькой стриженой голове его собственное ухо.
В ящик вложены были самодельные деревянные лотки, и на каждом из них лежали, подобно ювелирным украшениям в алмазном фонде, свинцовые грузила, мормышки, блесны, свирепые, хищно зазубренные крючки. Заграничные катушки с нейлоновыми лесками — в жестяных коробках из-под монпансье. Наиболее мелкие крючки и непонятного назначения бусинки были сложены в три алюминиевых портсигара.
Читать дальше