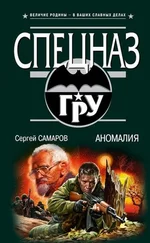— И ничего другого сделать нельзя?
— Говорят, что нельзя, козлы.
— Ну, и чего ты надумал?
— Тошно, тошно мне от этого всего. От склянок этих, от банок, от стоек с капельницами. Карасем себя чувствуешь, пойманным на крючок. Стыдно, понимаешь, до тошноты стыдно. Не могу я этого лечения переносить, физически не могу. Оно меня еще раньше доконает, чем любая болезнь.
Камлаев, кажется, понимал. Отец не испытывал ничего, кроме злости на то, что человека можно так унижать. Отец боялся превратиться в безжизненную жалкую куклу на пластиковой ниточке катетера, превратиться в инвалида — вот на что он не мог пойти, вот чего он не мог принять. Мысль о том, что его, сильного, здорового мужчину, однажды увидят жалким, беспомощным, была для отца несносна.
Камлаев еще не говорил с врачами, но подсознательно понимал, что у отца не осталось другого выбора: либо согласиться на унизительную операцию, либо дать гнусной опухоли разрастаться и дальше, съедая наиболее уязвимый и постыдный орган во всем человеческом теле. Либо купиться на сомнительную наживку надежды и заглотить предложенный врачами крючок, либо дать процессу развиваться своим естественным ходом.
Скотство-то какое… какая неправильность… Камлаев ощутил тяжелое, омертвляющее сжатие на всем протяжении тела от пяток до макушки, как будто протолкнулся в тесный лаз, и уже ни туда, ни сюда двинуться не мог — ни вверх, ни вниз.
— Вот такие дела, Матвейка, — подвел черту отец. — Ты-то сам как живешь? Сочинительствуешь?
— Говорят, в Германии исполняли меня много раз. Я-то сам, как ты, наверное, догадываешься, при этом не мог присутствовать.
— Ну, вот и хорошо. Я, по правде сказать, до конца вашей музыки никогда не понимал. Ну там, на слух, конечно, можно уловить определенные закономерности: краткости, длительности, точку против точки… понимаешь, что есть в этом живом дыхании такая же правильная и строгая структура, как и в любом химическом соединении. Своя кристаллическая решетка, скелет, правильно?
— Правильно.
— Есть такая музыка, которая будто всю скверну вычищает там, у тебя изнутри. Которая сильным человека делает, и пока она звучит, тебе ничего не страшно и ты чувствуешь, что любые горы можешь своротить. Твоя мать все Чайковского мне ставила, говорила, возвышает душу. А один раз, помню: тебе было года полтора, что ли, или около того, и у нас играет в доме вот эта пластинка Чайковского, а ты встаешь на своей кроватке и начинаешь вроде как даже дирижировать. Ну, там, своими ручонками из стороны в сторону поводить, приседать так потешно. А сам такой серьезный-серьезный. Смотришь на меня так пристально и молчишь. А глаза такие чистые-чистые, как будто росой промытые. И блестят. Ну, тут мать и говорит с торжественностью в голосе, с каким-то даже трепетом, замиранием: «Он плачет. Он будет великим музыкантом». Ну, ты ее эту особенность тоже прекрасно знаешь. Помнишь, как мы оставляли тебя тогда одного, потому что я работал, а матери нужно было ходить за продуктами и оставить тебя было не с кем? Я приладил к твоей кроватке загородку, чтобы ты не мог вылезти без посторонней помощи. Ну и вот, ты еще спишь, мать уходит, а когда возвращается через час, то ты стоишь в кровати и ревешь в полный голос. Не помнишь? Да, конечно, откуда тебе это помнить?
Пути их с отцом давно и уже непоправимо разошлись: Камлаев был захвачен музыкой, той музыкой, что текла в сиреневых зимних сумерках, поселяя в душе чувство тихого смирения перед разумностью всего мирового существования; отец же оставался к этой музыке глух, для этой музыки непроницаем, и мечта его о том, чтобы дать Камлаеву техническое образование и соответствующее направление в жизни, не получила осуществления. Чуть ли не с самого раннего детства Матвея отец ощущал, что Камлаев уходит от него — в отдельную, таинственную и недоступную область, но едва ли это было основанием для отчаяния: в конце концов, произошло то, наверное, что уготовано каждому родителю, и отец, погоревав какое-то время о болезненной тяге Матвея к музыке, от досады перешел к застенчивому изумлению: неужели это в его сыне открылись такие диковинные способности и неужели это его сын стал настолько всех в музыке превосходить, превратившись в объект всесоюзной, национальной гордости? И отец уже не прицыкивал языком досадливо, ругая мать за то, что отдала Камлаева в музыкальную школу, а покачивал головой как бы даже и восхищенно, не в силах понять, на какой такой почве выросло дарование Матвея — дарование, порывающее со всем, что отец знал о собственной, камлаевской породе.
Читать дальше