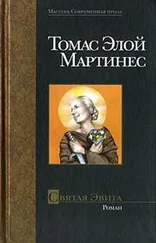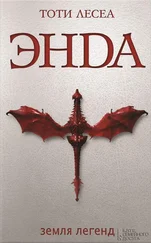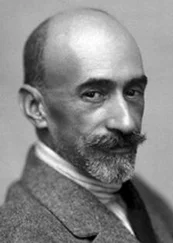Наш отец приглашал монахинь, которые учили нас с Квириной читать и писать, а одна наша тетушка, которая обожала числа, прекрасно показала нам, как вести счета. Это было очень интересно, я с радостью занималась этим, но что до книг, мы читали по большей части религиозные сочинения, такие как «Цветок Добродетели», «Зеркало Креста» и еще что-то о хорошем поведении, а потом какие-то безвредные повести и стихи. Я говорю вам обо всем этом, чтобы показать, как мое представление о добродетели, словно математическая задачка, постепенно свелось у нас к той простой мысли, что мы должны блюсти наши скрытые сокровища. Уже тогда я спрашивала себя: неужели это все, что они имеют в виду, когда говорят о добродетели и целомудрии? Я знаю, эти мои слова о срамных местах вульгарны, но мне все еще горько, ибо позже, после моего ужасного замужества и после того, как я начала думать по-настоящему, я стала понемногу понимать, что девушек держат в неведении, что они совершенно невинны и ничего не умеют, разве только шить и наряжаться, сплетничать и командовать прислугой, да делать то, что им говорят. Зачем с нами так поступают? Девушкам тоже надо кое-что понимать. В юности я знала слишком мало, чтобы чувствовать недовольство, и я слишком боялась отца, была слишком почтительной (что, в общем, одно и то же), чтобы задавать вопросы. Но вот сейчас я подумала, вы ведь можете решить, что мне все это внушил брат Орсо. Нет, мы никогда не говорили о таких вещах, никогда. У нас было так мало времени, Боже мой, что хочется рыдать. Мне придется ненадолго прерваться.
Теперь я собираюсь написать о постыдном случае из моей жизни, который объяснит вам в точности, что я имею в виду, когда говорю о том, что мы невинны и неопытны, а ведь из невинности может родиться и грех. Мы с Квириной обычно ходили к исповеди по субботам каждые шесть-семь недель; до того, как умерла матушка, мы ходили с ней и с горничной, затем с нашим отцом сиром Антонио, а потом просто с двумя служанками, потому что отец стал очень занят. Я думаю, священник только и ждал, чтобы мы пришли к нему только со служанками, потому что однажды в субботу, примерно через год после того, как у Квирины обнаружили дефект (да, должно быть, прошел год или чуть больше), пришла моя очередь исповедоваться, а вы знаете, что обычно говорят на исповеди девушки в этом возрасте — всякие пустяки о том, как они на кого-то рассердились или обиделись. Итак, закутанная почти до самых глаз, во всех покрывалах и головных уборах, как и положено девушке моего положения, я прошла на обычное место, преклонила колени и начала говорить. Был тихий день, и в той части церкви никого не было, кроме Квирины и двух наших горничных, которые стояли позади на некотором расстоянии. И вот что произошло. Я исповедовалась священнику уже не помню в чем, как вдруг, не произнеся ни слова, не издав ни звука, отец Людовико — так его звали — сунул мне в лицо некий предмет, какого я раньше не видела. Он был прямой и торчал прямо в мою сторону. Я была так напугана, что мое горло сжалось, как кулак. Я пыталась что-то сказать, думаю, я хотела закричать: «Нет», — но не смогла, я стояла на коленях, а он, проворно, словно ящерица, сунул эту штуку мне в руки, которые были сложены для молитвы, и из нее что-то брызнуло мне на руки и на грудь. Я не поняла, как это произошло, хотя эта штука была прямо перед глазами, так что я видела ниточки сосудов, и складки, и маленький глазок посередине. Затем он прорычал: «Теперь иди, хе-хе, но если ты скажешь хоть кому-нибудь, будет скандал, а ты ведь не хочешь новых скандалов в своей семье?» Он уже прятал свой предмет под рясой, между волосатых ног, кусая губы и хмурясь, словно ругал кого-то. Мне будто дали пощечину, я поднялась смущенная и сердитая, нет, это мне сейчас так кажется. Тогда все случилось так быстро, что у меня не было времени сердиться. Я была потрясена и испугана, и я поплотнее закуталась в накидку, чтобы спрятать его дьявольскую жидкость, и поспешила домой, а Квирина и служанки плелись позади. Мне пришлось смывать эту клейкую массу с ладоней и с накидки, и мне казалось, что мои руки в грязи, и я потом ненавидела эту накидку, потому что она вызывала во мне стыд, и до сих пор я вижу, как оттираю в холодной воде эти гнусные пятна.
Благочестивая Квирина и служанки так никогда и не узнали, что случилось, я никому ничего не сказала, но заявила Квирине, что не пойду больше на исповедь к этому животному, отцу Людовико. Я не назвала его животным, просто сказала, что мне не нравится, как он со мной обращается, что от него дурно пахнет (это было правдой) и что я хочу найти другого исповедника. Она обвинила меня в том, что я слишком привязана к земному миру (какое значение имеет запах?), но в конце концов отвела меня в другую церковь неподалеку, но не сомневайтесь, с тех нор я остерегалась священников, я очень долго думала о низком поступке того человека, о том, что я должна была бы сделать, но все же молчала, меня слишком пугала мысль о скандале. В пятнадцать лет я должна была думать о браке и своем будущем, какой у меня был выбор? За кого меня выдадут замуж — и когда, о Боже, когда? — вот все, о чем я думала, так меня воспитали, не могла же я пойти к моему отцу с отвратительным рассказом о священнике, сунувшем свой член мне в лицо, да и что он мог сделать, лишить этого человека прихода или выгнать его из города? А как об этом молчать? Послушайте, грех свершился, поступок отца Людовико наполнил меня страхом и тайным стыдом. Я рассказала об этом своей кузине Полиссене — вы с ней уже познакомились, — которая к тому времени уже была в монастыре Сан-Дзаккария, и она была потрясена, но посоветовала мне молчать. История с Квириной еще была у всех на устах. Этот отец Людовико, конечно, знал, как проделать свое дело, и Полиссена сочла, что рассказ об этом не принесет мне и нашей семье ничего хорошего, что бывают вещи и похуже, как, например, совокупления священников с мальчиками. Мне пришлось спросить у нее, что это значит, и ее ответ удивил меня, почему-то она всегда знала больше, чем я, о том, что происходит в мире, хоть и была монахиней.
Читать дальше