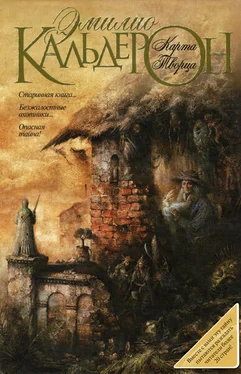— Ужасная история, — согласился я.
— Поэтому я решила отомстить.
— Отомстить?
— Как только я узнала, что Гиммлер собирается приехать в Барселону и остановиться в «Ритце», у меня появился план. Двадцать лет назад, когда мой дядя Хайме стал жить отдельно, он взял с собой горничную, которую уступила ему моя бабушка. Эта женщина, Анна-Мария, любила его как сына, хотя злые языки говорили, будто между ними существуют более тесные отношения. После того как мой дядя по идейным соображениям перестал поддерживать отношения со своими братьями и с деньгами у него стало действительно туго, Анна-Мария устроилась ключницей в отель «Ритц» и работает там до сих пор. Так что я пошла к ней и рассказала ей, что мой дядя жив и что его используют в качестве подопытного кролика. Потом я попросила у нее копию ключа от номера Гиммлера и униформу горничной: я предполагала, что среди документов, которые он носит в своем портфеле, вероятно, есть и бумаги, касающиеся экспериментов, проводимых доктором Вальехо Наджерой в Миранде-де-Эбро и других концентрационных лагерях. Я сообщила ей о своем плане: выкрасть документы, а потом опубликовать их в международной прессе, чтобы нейтралитет, которого так желает Франко, оказался под угрозой, если он не положит конец подобной медицинской практике. Анна-Мария сумела достать мне то, о чем я просила, и выбрала подходящее время для осуществления моего замысла, так что войти в номер Гиммлера и выйти из него оказалось легче легкого.
— Но ты ведь не знала, что за документы находились в портфеле Гиммлера, — заметил я.
— Верно. А поскольку я не умею читать по-немецки, то продолжаю пребывать в неведении. Но наверняка это важные документы. Поэтому я подумала, что будет лучше, если они окажутся в руках Смита.
И с этими словами Монтсе достала из своего чемодана черный кожаный портфель.
— Ты приехала из Барселоны в Рим с портфелем Гиммлера в чемодане? — ахнул я, не веря собственным глазам.
— Я спрятала его среди нижнего белья. Кроме того, Юнио дал мне пропуск — на случай, если я однажды захочу вернуться в Рим. Это было нетрудно.
Я оторопел от такой храбрости. Она сама разработала план, осуществила кражу (можно сказать, хитроумную для человека, не сведущего в таких делах), а потом хладнокровно переправилась на другой берег Средиземного моря, спрятав добычу в нижнем белье. Поступок, достойный восхищения!
— Ты настоящая Мата Хари.
— То, что случилось с моим дядей, открыло мне глаза. Я решила сражаться с фашизмом любыми способами, — заявила она.
— А почему ты не можешь заниматься этим в Барселоне?
— Потому что у Франко в Испании все под контролем. А вот если Гитлер и Муссолини проиграют войну в Европе, у Франко не будет союзников, он окажется в изоляции… Ты продолжаешь видеться со Смитом?
— Да. Раз в три или четыре недели.
— Окажешь мне услугу? Передашь ему документы?
Я схватил портфель и положил его в шкаф, даже не взглянув на содержимое.
— Завтра утром я постараюсь договориться с ним о встрече, — пообещал я.
— Слава Богу. Во время плавания я постоянно думала о том, что ты… мог измениться.
— Я действительно изменился, уверяю тебя. Я передаю Смиту чертежи бункеров, которые проектирую. Он утверждает, что за это меня могут обвинить в государственной измене.
Я впервые обсуждал эту тему с посторонним человеком, и у меня возникло ощущение, что я говорю о ком-то другом, тем более что изменником я себя вовсе не чувствовал. Я просто поступал по совести и не видел в своих поступках ничего плохого, а только пользу, которую они принесут моей душе.
— Это значит, что тебя могут расстрелять, — заметила Монтсе.
Даже Смит не осмеливался вот так, напрямую, высказать подобную мысль.
— А как ты думаешь, что сделают с тобой, если история с портфелем Гиммлера откроется?
— Значит, нас расстреляют вместе. Это будет зловещая шутка судьбы.
Меня встревожило, что она с такой легкостью говорит о столь серьезном деле.
— Вопрос в том, умрем ли мы гордо, с сознанием выполненного долга. Полагаю, именно это утешение остается у приговоренного к смертной казни. Мысль о смерти не пугает меня, но я не могу себе представить, как и когда умру. Меня не интересуют детали, и, конечно же, я не знаю, как поведу себя перед расстрелом. Я думаю, что моя храбрость пока абстрактна, и мне бы не хотелось подвергать ее испытанию.
— У меня все наоборот. Я могу вообразить себя перед расстрелом: я посмотрю на своих палачей, высоко подняв голову; но я не люблю думать о смерти или, лучше сказать, о ее истинном значении. Иногда мне хочется умереть — так было, когда я узнала правду о дяде, но мне кажется, это просто проявление свойственной любому человеку эмпатии, сопереживания с теми, кто страдает. Подобное желание умереть дает силы продолжать жить, чтобы бороться с несправедливостью.
Читать дальше