На самом же деле улететь с острова оказалось непросто, это я понял в последний день своего пребывания там. С большим трудом удалось зарегистрировать билет на рейс до Самоа, отправлявшийся вечером в субботу, одно было неясно: произойдет это счастливое событие вчера или завтра; впрочем, все это не имело значения, — потому что рейс так и не состоялся. Пассажиры, ожидавшие самолета возле здания аэровокзала — на Тонге все происходит не «внутри» а «возле» зданий, — вели себя почти как беженцы, нервно поглядывая на часы и прислушиваясь, не раздастся ли в вышине шум моторов самолета. И чего все так беспокоятся? — думал я, оставаясь, благодаря счастливой неосведомленности, единственным среди них оптимистом. Они-то помнили, что нигде в мире молитвенная нерушимость Господнего дня не соблюдается с такой истовостью, как на Тонге; до наступления воскресенья оставалось всего полчаса, а по воскресеньям местный аэродром самолетов не принимал. Следующее за полуночью мгновенье до сих пор живо в моей памяти. Все застыли, затаив дыхание, часы пробили полночь; и сразу же в вышине послышался шум самолета, развернувшегося над аэродромом и возвращавшегося назад, не забрав нас с собой. Мы, внизу, начали нервно смеяться, каждый — своим мыслям. Шум одинокого самолета замирал в тишине тропической ночи. Я должен был бы сильно расстроиться, но этого не случилось. Чудом оказался я на Тонге и теперь, благодаря новому чуду, должен был провести воскресенье в месте, где понятие Праздности, ничегонеделания в этот день возведено в абсолют; состояние полного покоя сопровождается колокольным звоном, который раздавался каждые два часа, подтверждая: все застыло. Все, на самом деле все, закрыто; движутся лишь птицы и прихожане, направляющиеся в церковь, зажав под мышкой Библии и молитвенники. Ни рестораны, ни бары не работают, райская праздность распространяется по затихшему острову. Из окна своего номера я смотрел на проходивших мимо прекрасных, как во времена Гогена, людей. Гордо, словно драгоценности, несли они черные книги; люди, живущие в раю, шли петь, и молиться, и слушать проповеди о вечных адских муках.
Все здесь располагало к медитации, и я решил пройтись и подумать о чем-то приятном. О красоте и грехе, праздности и движении. Как бы устроить так, чтобы остаться здесь навсегда: ловить рыбу, срывать время от времени кокос, позабыть суету внешнего мира, основать личный скит Ордена Молчащих и Постигающих? Путешествуя по свету, я делил места, которые посещал, на те, куда мне хотелось бы вернуться, и те, куда лучше не возвращаться. Останься я здесь, пришлось бы сообщить миру о месте, которое невозможно покинуть. — Кто еще не понял, поглядите на карту Тихого океана. Островное королевство Тонга занимает площадь 362 500 квадратных километров и расположено на уйме островов и островков, застывших посреди бескрайнего океана; время здесь вообще ничего не означает, и неудивительно, что именно здесь провели линию перемены дат. Собственное время Тонги течет медленно, как густой сироп, и определяется без участия часов; параллельно с ним существует время Папаланги — остального мира, и соотношение между ними примерно такое: один час Тонги равен двенадцати часам Папаланги. Но раз времени тут не существует, то не существует и множества других вещей, к которым мы привыкли; не знаю, достанет ли мне внутреннего покоя, чтобы основать Орден Молчащих и Постигающих.
Когда-то молодой канадский писатель, посетивший Амстердам, спросил меня, зачем, черт побери, живя в одном из прекраснейших городов мира, я все время куда-то езжу. Хороший вопрос, особенно если он вспоминается, когда сидишь, опершись спиною о ствол пальмы. Солнечные зайчики превращают океанскую равнину в поле, вымощенное драгоценными камнями, но мне видится туманный октябрьский вечер в Амстердаме, а сразу за ним — ледяной, сырой вечер на острове в венецианской лагуне, с которого далекие городские огни едва видны. Венеция и Амстердам, два города, которые я, возможно, люблю больше всего на свете. А Лос-Анджелес? Этот город нельзя любить, считают многие из моих американских друзей, но сейчас здесь, на другом конце бескрайнего океана, я ощущаю, как ни странно, болезненную тоску по нему, чудовищно разросшемуся мегаполису, так и не победившему пустыню, посреди которой он некогда возник. Я провел там целый год, когда писал «День поминовения»; гуляя по залитому солнцем берегу океана в Санта-Монике под колоссальными вашингтоновыми пальмами, я сочинял книгу о снежной, холодной берлинской зиме.
Читать дальше
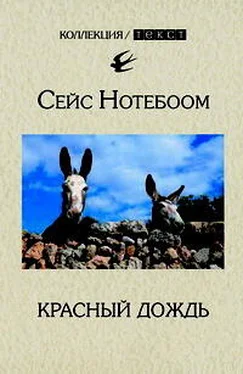

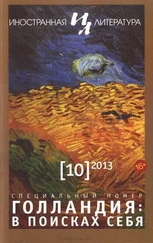

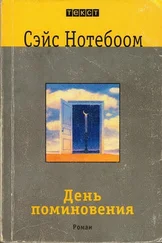
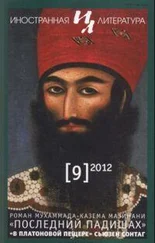



![Лаврентий Чекан - Красный дождь [litres]](/books/388055/lavrentij-chekan-krasnyj-dozhd-litres-thumb.webp)

