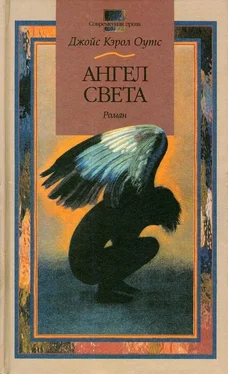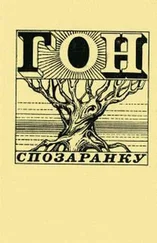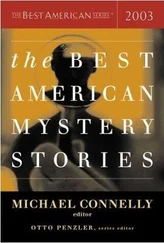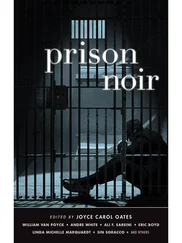Мори читает слова кардинала о таинственной «биологической радости», которая вроде бы ведома африканцам; о спокойствии — силе, которой белые не обладают. Европейцы, североамериканцы… Он говорит, что черные африканцы умеют умирать, рассказывает Мори, пытаясь скрыть волнение. Кардинал прожил там двадцать лет и работал с ними в больнице и в деревнях, но говорит, что не понимает их: это ему не дано — понимать их.
Ник трет глаза. Поздно — третий час ночи, а в семь вставать. Он медленно произносит:
— Что ж, молодчина он, я хочу сказать, молодчина, что может такое вынести. Что вообще кто-то может.
— А ты не мог бы? — спрашивает Мори.
Ник пожимает плечами. На нем грязные штаны цвета хаки и белая нижняя рубаха, от которой исходит сухой резкий запах пота. Кожа у него загрубела от работы. Потемнела, покраснела, словно обожженная ветром. Хитрые продолговатые глаза, в которых (так кажется Мори, когда он исподтишка разглядывает приятеля) черные точечки зрачков мечутся как крошечные рыбки. Ник, известный своей жестокостью. Своим сардоническим, саркастическим умом. В ту ночь, когда Мори уже почти заснул, Ник — бледный от злости и горя, с красными глазами — тихонько постучался к нему в полночь:
— Мори! Ты не спишь? Можешь поговорить со мной? Мори?
Мори листает журнал, чтобы скрыть нервозность. Он не хочет расставаться со столь дорогой его сердцу темой о кардинале де Монье.
— Ты не мог бы, Ник? Не хватило бы сил?
— А ты?
Мори втягивает в себя воздух, смеется:
— Я?! Никогда.
Он закрывает журнал. Внимательно разглядывает фотографию кардинала на обложке — старческая голова крупным планом, без прикрас.
Может, это всего лишь старик, и только?
Мори тоже хочет быть молящимся свидетелем. Он знает, что это его «призвание»… вот только конкретно в чем оно? Однако он не хочет показывать Нику своего волнения. Нику претит проявление эмоций, смущает его; потом, в присутствии других, он склонен припомнить эксцентрические восторги и высмеять их. (Так, дружески и в то же время не без издевки Ник однажды упомянул, что Мори интересуется флейтой; затем посмеялся над тем, что Мори целый месяц упорно интересовался муравьями; затем остроумно живописал его боксерские «успехи».)
— Только не я. Никогда. У меня сил не хватит, — говорит Мори. Медлит, облизывает губы. — Пока у меня еще недостаточно сил.
— Что ж, — со вздохом говорит, зевая, Ник. — Что ж. Хорошо, что есть на свете такие люди… вроде этого — как его?.. Монье?
Ник потягивается — небольшие крепкие мускулы выступают под кожей.
Еще одна из бесед — их тайных ночных бесед, когда они с присущим школьникам пылом говорят о всяких удивительных материях, — явно подходит к концу. Мори не в состоянии ее продлить. Нику не терпится уйти: он действительно на пределе. (Ник с его нераскрытыми проблемами, с его засевшим как шип горем, которое, видимо, как-то связано с его семьей. С отцом? Этим Бернардом Мартенсом, которого Мори никогда не видел? Сейчас он директор Филадельфийской академии музыкальных искусств, института, существующего на частные пожертвования, небольшого, не слишком — насколько понимает Мори — ныне процветающего. В прошлом Бернард Мартене концертировал как пианист, хотя, видимо, не очень успешно, так как, кого бы Мори ни спрашивал, никто не помнит такого имени. Мать Ника тоже весьма таинственная особа. Из случайно услышанных обрывков телефонных разговоров Мори понял, что у нее какие-то там трудности — брак их, видимо, рассыпается, — но Мори, конечно, не может расспрашивать об этом Ника. Не смеет. Надо терпеливо ждать, сопоставляя, ловя намеки, которые Ник роняет как крошки или драгоценные каменья — небрежно и царственно, несмотря на свою беду.)
А Мори никак не может избавиться от мыслей о кардинале де Монье и больнице при миссии в Яунде. Хотя он уже потерял надежду заставить своего друга понять и явно наскучил ему. (Поздними вечерами в школе Бауэра Мори и Ник в течение трех лет со всем эфемерным пылом юности подробнейшим образом обсуждают такие темы, как смысл смерти; существует ли бессмертный дух; существуют ли только биологические и механические формы жизни; что такое любовь; почему так трудно говорить правду родителям; что такое кодекс чести — прекрасная идея или романтический идеал, борьба с соблазном поступать бесчестно?., обсуждают они и своих учителей, своих друзей, ректора, качество школы, в какой колледж пойти, на юридический факультет какого университета — как если бы тут была возможность выбора. Они говорят о Боге: есть он или нет; или же это всего лишь некая сила, оно. Они говорят о свободном волеизъявлении и детерминизме; о дуализме (являются ли дух и материя раздельными субстанциями); о том, что значит «безумие»; можно ли оправдать самоубийство: к примеру, если человека собираются подвергнуть пыткам и он может предать друзей или товарищей. Обсуждают проблему — ибо это настоящая проблема, — как жить. Где применить свои силы. На поприще закона, политики, образования? В искусстве?.. в бизнесе?., в медицине?.. Что это все-таки значит — определить свое призвание ? Если иметь в виду не служение Богу, а мирские дела?)
Читать дальше