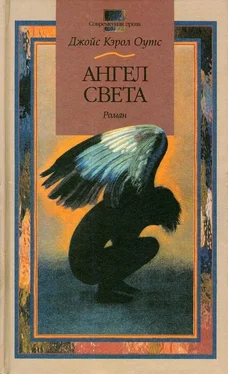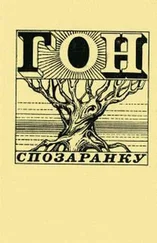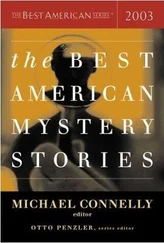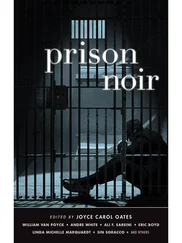Вода хлещет из крана, теплая и умиротворяющая. Кирстен обильно намыливается. Руки… локти… плечи… грудь… живот… бедра… ноги. Теплая мыльная вода стекает по ее ноге. Теперь я уже не могу вернуться к нему, неожиданно мелькает у нее в голове, я не могу снова перепачкаться.
Теперь он уже умер. Отвратительное свистящее дыхание прекратилось.
Хрипело у него в горле?.. Но здесь, внизу, текла вода, Кирстен деловито напевала себе под нос, она ничего не слышала.
Она вглядывается в маленькие часы на кухонной полке, пытается понять, который час. Глаза плохо видят. В голове звенит от усталости. Наверху лежит мертвый Ник — значит, она свободна, значит, ей никогда не придется больше думать о нем. Или об Изабелле. (Но разве Изабелла мертва? Эта мысль внезапно кажется Кирстен маловероятной.)
Она надевает через голову блузу, вытряхивает рукава, проверяет манжеты — не запачканы ли они; они не запачканы. И юбка тоже. Только чуть смята. А ее бусы и браслеты? Она отыскивает их — одни за другими.
От нее не должно остаться ни единого следа. Ни единой улики.
Она расхаживает по дому, не заглядывая лишь в ту комнату, где он лежит на полу в луже крови. Хотя ухо ее улавливает, что он дышит, она внушает себе, что, пока не проверила его пульса, пока не приложила ухо к его груди, она не может по — настоящему знать, жив он или нет.
И почему они так долго умирают, недоумевает она, покусывая ноготь. А что, если позвонить Оуэну…
Она находит янтарное ожерелье, тонкую золотую цепочку, коралловые браслеты. Всовывает ноги в сандалии. Свежая и чистая, пахнущая мылом «Слоновая кость».
— Почему ты не умираешь? — тихо говорит она. — Мерзавец, лгун, нелепый волосатый старый пьяница, навалился на меня, точно… — Она задерживает дыхание, прислушивается: нет, он все еще тут, он еще тут.
Она находит нож — там, где выронила его из рук. И накручивает себя сделать еще одну попытку… один последний, отчаянный удар… но в кишках у нее возникает спазм, она боится потерять над собой контроль, стать жертвой физической беспомощности. К тому же она ведь только что вымылась.
— Я советую вам приехать за ним, я советую вам немедленно выслать «скорую помощь», — говорит она, прочистив горло, полицейскому, слушающему ее на другом конце провода; голос ее звучит твердо, перекрывая грохот двух автомобилей, мчащихся на юг по Шестнадцатой улице. — Он истекает кровью. Наверное, и внутри тоже… кровотечение. Рок-Крик-лейн. Да. Второй дом от конца.
И, повесив телефонную трубку, она быстро уходит.
— Куда вам, мисс? — спрашивает таксист, с любопытством оглядывая ее в зеркальце заднего вида. У него темная кожа латиноамериканца, густые усы, круглые очки без оправы, придающие ему вид лихого школьного учителя. — Удираете от дружка?
Кирстен ему не запугать. Она медленно отводит волосы с глаз; откидывается на сиденье, держа на коленях свою плетеную сумку. И произносит совсем как ее мать, таким же ровным тоном:
— Куда угодно, лишь бы подальше отсюда. На север. Трогайтесь же.
«Когда я умер, — пишет Ник Мартене Кирстен Хэллек, — страх у меня исчез. Но на месте страха образовалась пустота. Там, где раньше был страх».
Он теперь хорошо изучил морских птиц и чаек, песчаные ямы и песчаные дюны. Капризы океана. Небо, туман, дождь, который то льет стеной, то сеется так тонко, что, кажется, его и вовсе нет, а он висит в воздухе, чудесно неслышный.
«Ты меня понимаешь? — спрашивает он Кирстен, хотя та не отвечает ему. — Ты чувствуешь ту же пустоту?»
Он гуляет вдоль кромки океана почти в любую погоду — шагает с трудом… часто с палочкой… но все-таки шагает, проходит с милю, а то и больше, на заре в направлении старого, разрушенного маяка и на закате снова. Обросший бородой, изможденный и «неприметно» одетый, как написал о нем один журналист. Кожа у него загрубела, покрылась бронзовым загаром, высохла; порой на ней поблескивают крошечные песчинки или кусочки слюды. Борода, более седая, чем волосы, не стрижена и выглядит отнюдь не привлекательно — она придает ему вид этакого сурового и одновременно слегка ироничного деда. И ходит он в старье — в бесформенной панаме цвета хаки, когда-то принадлежавшей его отцу и обнаруженной в шкафу на даче; в холодную погоду — в непромокаемой куртке на меху, в теплую погоду — в коричневом пуловере, явно принадлежавшем более плотному мужчине.
Маскировка? Да нет. Ведь «маскироваться» ему теперь незачем. Хотя, конечно, два-три злобствующих соседа, которые живут на островке круглый год, могут думать иначе.
Читать дальше