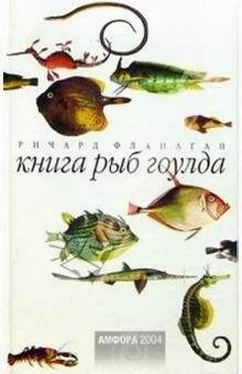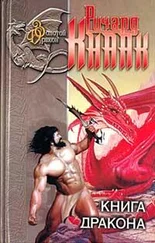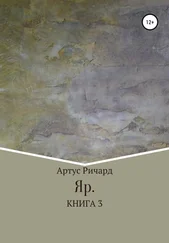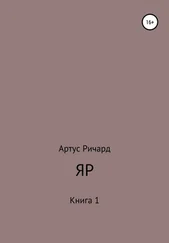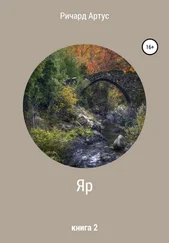— Ты что, думал, Брейди тебя спасёт? — рассмеялся, пнув меня в лицо, Муша Пуг.
— Разумеется, — ответил я, ибо догадывался, что именно такого ответа он ждёт, хотя и знал теперь, насколько тогда ошибался.
Окажись перед ним всё, какие только есть на свете, книги о страданиях сего мира, Мэтт Брейди, кем бы он ни являлся, и то не сумел бы нас спасти. Ничто не спасло бы нас. Ни Докторова Наука. Ни Комендантова Культура. Ни сам Господь Бог, который бесконечен во времени. Не могли бы спасти себя и мы сами. В нашем прошлом не находилось утешения и надежды. Не было их и в будущем. Даже в идее загробного воздаяния. Существовали только сапоги Муши Пуга, один из которых нанёс удар по моей щеке, а потом скользнул по рту, после чего я поцеловал его. Поцеловал, потому что, кроме этих сапог, не осталось в мире ничего, что я смог бы полюбить.
За крошечным окошком, на решётке коего я висел, открывался вид, показавшийся мне сразу и чудесным, и поучительным: на молу сушила сети свои рыбацкая артель, а рядом со сколоченной из грубых досок пристанью в назидание нашим падшим душам была поставлена виселица — она как бы присматривала за нами с высоты, дабы мы ни на минуту не забывали о воздаянии за грехи, пока не всё ещё потеряно. У её подножия при отливе обычно взгляду открывались отбелённые солнцем и обкатанные волнами черепа и кости солдат лейтенанта Летборга — прибой то и дело выбрасывал их на прибрежный песок. После поимки меня поместили в новую камеру — камеру смертников, — дабы я ждал неминуемого наказания, которое должно было последовать на восьмой день, то есть через неделю.
Новый мой дом обладал своими достоинствами. Его не затопляло каждый день приливом, и потолки здесь выглядели прочными. То была одна из трёх смежных камер, несколько больших, чем моя предыдущая, и находившихся на противоположной стороне острова, — и я мог бы почти наслаждаться таким, незнамо от кого доставшимся наследством, когда бы не Побджой, который и тут взял за правило то и дело нарушать моё уединение.
Я попробовал ещё повисеть на манер Христа, но меня не настолько уж и увлекали собственные страдания, особенно по сравнению с муками всего мира, о которых так любил когда-то поговорить старый священник. Исхудавшие руки не могли долго удерживать даже мой ничтожный вес, и я упал во тьму камеры, меж тем как Побджой, по привычке сутулясь, будто он стремился снизойти до чего-то весьма невысокого, громогласно требовал возвращения масляных красок. До сего момента меня не оставляла надежда, что корыстолюбие Побджоя, стремящегося постоянно пополнять запас поддельных Констеблов, стакнется с моим желанием выжить. Вышло же совсем наоборот: он спокойно заявил, что моя надвигающаяся смерть его более ничуть не волнует.
— Я подозреваю, — проговорил он, решительно вторгаясь в мою камеру и жадно хватая набор красок, а заодно и новоиспечённого Констебла, и тут же поправился: — Нет, я знаю , я даже более чем уверен, что могу точно сказать, каким образом ты сбежал.
Я окидываю взглядом его веснушчатое, круглое, как луна, лицо, бельмо на его глазу, которое, верно, и объясняет, что он видит всё в кривом свете. Нижняя губа у него сильно выдаётся вперёд, выступающий красный подбородок покрыт давно не бритой щетиной; при взгляде на него невольно приходит на память большая уродливая морда рыбы-солнечника. Не знаю почему, но я никогда не брался рисовать солнечников. Это слишком сложно.
Мне следовало сразу догадаться по той небрежной манере, с какой он в последнее время носит свой красный мундир не застёгнутым на все пуговицы, что его мучает позыв Неутолённой Страсти. Желания его оказались воистину грандиозны.
— Я хочу, — заявил он, и голова его дёрнулась назад, сразу и высокомерно, и нервически, выдавая мечту вкусить запретный плод, который мог обернуться для него отравой, — стать Художником.
Я стал уверять, что есть и худшие разновидности честолюбия, но в ту минуту не сумел вспомнить ни одного подходящего примера.
Чем более он настаивал, тем краснее становилось его лицо и тем сильней дёргалась голова. И чем резче она двигалась, чем ярче обозначалась приливающая к физиономии кровь, тем сильнее выпячивались губы, словно в стремлении преодолеть какой-то детский дефект речи. И чем более выдавались эти губы, точно рыло солнечника с его способным чуть не до бесконечности выдвигаться вперёд ртом, тем более я терялся в догадках, действительно ли он мне что-то говорит или пытается высосать из меня своим невероятным ртом то самое важное, что должно питать его безумные эстетические устремления.
Читать дальше