Поднялся, вытер пот: «Ну, докатился, друг… убил красноармейского гаденыша… Сик транзит». Залез к нему за пазуху, нащупал письмо. Там значилось: «Товарищу краскому Сиверсу. Найденов Коля к вам направляется от имени самарской комячейки. Он хочет преданно служить, а если надо — умереть — за дело мирового пролетариата. С коммунистическим приветом, товарищ Христич».
Засунув письмо за пазуху, пошел туда, где за ветвями вставало красно-солнце. Продрался сквозь кусты малины: опушка была близка. Внезапно меня насторожило конско-ржанье: увидел всадников, неторопливо огибавших лес: свои или чужие? Напрягши воспаленные глаза, я разглядел: казацкие папахи, лампасы, газыри… Рванул навстречу, припадая к сапогам, икнул: «О господа, как хорошо, что я вас встретил..»
Они остановились. Поручик Кебич спешился, спросил: «Вы кто?»
— Я — юнкер Синицын. Я был захвачен красными. Скажите Каппелю, что красные готовят наступление завтра на заре… Они достигли соглашения с Махно… быстрее, ради Бога!
— Вползайте, юнкер…
Роняя едкую слюну, изнеможденный и почерневший, заполз в вагон и лег в изнеможенье на красной ковровой дорожке… Какая обстановка! Стены увешаны портретами, на окнах бархатные занавеси и аромат — хороших сигар и коньяка… За красным полированным столом — полковник Штаубе, в парадном мундире с аксельбантами, монокль в недвижном левом оке.
— Ну что же вы, юнкер! — приятный баритон звучит с укором. — Мы вас послали в разведку, надеясь, что вы вернетесь через час, а вы — исчезли на 5 дней… Где вас носило?
— Я, я… — и судорожные звуки скребутся из моего горла. — Я был в плену… и вот, извольте видеть! — я показал измазанное нижнее.
— Ну ладно, — полковник поморщился, — займитесь собой, снимите это подоночное неглиже, переоденьтесь, одним словом, ну а потом — прошу к столу. Есть дело.
— Скажите только, какое сегодня число?
— Сегодня, милостивый государь, декабрь 19-го, мы накануне Рождества. Точнее — 20-е сегодня. Наш эшелон с боями прошел сквозь красных у Семипалатинска и движется на всех парах к Владивостоку. Вы не забыли, надеюсь, что адмирал Колчак велел оставшимся в живых достичь Находки и временно отправиться на сборы в Сан-Франциско…
— Да-да, конечно, — я выдавил подобие улыбки.
Полковник харкает в батистовый платочек и водит рукой по карте: «Докладываю обстановку, господа! В живых осталось — трое офицеров. А с юнкером Синицыным — уже четыре. Вот видите, — его рука ползет по ветке Транссибирской магистрали, — до бухты Находка — 6 тысяч километров, а там уже японцы, порядок. Молитесь Богу, господа, чтоб не возникли партизаны. Солдаты сбежали, в соседнем вагоне-лазарете — лишь четверо медичек. Вот вся наша живая сила. Четыре револьвера, пять винтовок, пригоршня патронов и вышедший из строя пулемет «максим».
— Неужто мы прощаемся с Россией? — задумался корнет Кулагин.
— Я предлагаю, — хмыкнул капитан Машук, — устроить на всякий случай прощальный пир. Позвольте пригласить медичек?
— Извольте, только без эксцессов, — полковник был печально равнодушен.
Мащук махнул рукой, и появились медсестры Смоковницыны — Тамара, Женя, Нина и Анастасия.
— Давай! — махнул рукой полковник, поставил граммофон.
Штабной вагон заполнила щемящая мелодия. Отцветших хризантем. Скрутили восемь самокруток с анашой и задымили. Густой угар потек по капиллярам. — А ну! — прикрикнул капитан Машук.
— Готовы! — ответили медсестры и стали на четвереньки, закинув юбки на шиньоны. Все четверо — с худыми, жилистыми ягодицами, в высоких сапогах.
— Они — они и есть сестрички милосердия, — промолвил однорукий капитан Мащук. Он расстегнул здоровой правой лапой галифе и вытащил маленький кривой член.
— Вы не смотрите, поручик, что он мал, — сказал Мащук, — но в деле — незаменимый ятаган! — и он воткнул его в срамные губы юной девы.
— Вы огрубели на войне! — сорвался в фальцет корнет Кулагин и принялся ласкать шершавым языком бледную поросль Анастасии. Затем пристроил свой нетвердый юношеский фалл.
Они работали в четыре жерла: полковник Штаубе, корнет Кулагин, кавалерийский капитан Мащук и я, то бишь юнкер Синицын. Гудел паровоз, за окнами мелькали сучья: на всех парах мы удалялись от европейской части матушки-России, где бушевали адепты новой веры.
Отдав последний фронтовой салют, утерли лбы, заправили клинки и сели за стол переговоров (сестрички безмолвно удалились). Достав последнюю бутылку «Реми Мартана», полковник Штаубе разлил ее в четыре стакана и произнес: «Пусть каждый из нас — на этом свете или на том — запомнит сей день — коньяк, сестричек, снежные леса и поручение Верховного правителя Сибири — добраться до Сан-Франциско, а там — начать по новой…»
Читать дальше
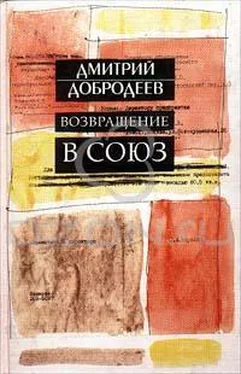



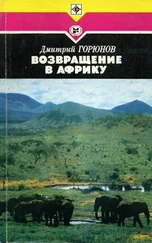
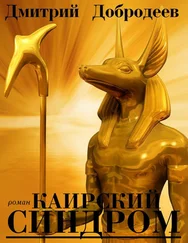



![Дмитрий Янковский - Возвращение волхва - Против тысячи втроем [СИ]](/books/432391/dmitrij-yankovskij-vozvrachenie-volhva-protiv-tysyach-thumb.webp)


