Когда Эрике пришла пора выходить на работу, в нашем доме появилась няня, Грейс Телуэлл, высокая дородная женщина лет пятидесяти, родом с Ямайки. У нее было четверо взрослых детей, шестеро внуков, и держала она себя королевой. Бесшумной поступью выступала Грейс по нашему дому, говорила певучим грудным голосом, и лицо ее, подобно лику Будды, вопреки любой суматохе и неразберихе, излучало спокойствие. Что бы ни случилось, я слышал от нее неизменное:
— Ну, вот и замечательно!
Когда Мэт ревел, она подхватывала его на руки и мурлыкала:
— Ну, вот и замечательно!
Когда Эрика, вся в мыле после целого дня занятий в Университете Ратджерса и магазинов, врывалась на кухню и дико поводила вокруг себя глазами, как загнанная лошадь, Грейс ласково клала ей руку на плечо и, улыбаясь, приговаривала:
— Ну, вот и замечательно, — а потом неторопливо помогала моей жене разложить по местам покупки. Вместе с Грейс в наш дом вошла и ее житейская мудрость, которая овевала и оглаживала нас троих подобно ласковому карибскому бризу. Она стала для Мэта настоящей доброй волшебницей, и чем лучше я узнавал ее, тем отчетливее понимал, насколько незаурядного человека, и по уму, и по душевной глубине, подарила нам судьба. Сильнее всего нас поражала способность Грейс отделять главное от сиюминутного. Зачастую нам становилось стыдно собственной суетности. По вечерам, если мы с Эрикой уходили куда-то, а Грейс оставалась с Мэтом, то, вернувшись, мы находили ее в детской. Мэт спал, свет во всей квартире был потушен. Грейс не читала, не вязала, а просто молча сидела на стуле и смотрела на него, умиротворенная течением собственных мыслей.
Марк Векслер родился двадцать седьмого августа. Теперь наши семьи жили друг над другом, но, несмотря на соседство, мы с Биллом виделись немногим чаще, чем раньше. Из квартиры в квартиру кочевали книги, мы обменивались какими-то статьями, но жизни наши по большей части проистекали в границах семейных гнезд и почти не пересекались. Рождение первого ребенка — это всегда до той или иной степени потрясение для родителей. Ребенок требует столь многого и создает вокруг себя такое эмоциональное напряжение, что семья просто вынуждена ограждать себя от посторонних, сосредоточиваясь только на малыше. Иногда Билл, возвратившись домой из мастерской, спускался ко мне и приносил с собой Марка. Обычно он говорил что-то вроде: "Люсиль прилегла", или "Она совсем вымоталась", или "Пусть хоть чуть-чуть передохнет". Я не задавал лишних вопросов, хотя, признаюсь, чувствовал в его голосе тревожные нотки, но ведь он всегда тревожился за Люсиль. Билл на удивление ловко обращался с сыном, который был его уменьшенной голубоглазой копией. Мне Марк казался на редкость спокойным, упитанным и каким-то осоловевшим. Мой всепоглощающий интерес к собственному ребенку никак на него не распространялся; однако глубокая привязанность Билла к сыну, не менее глубокая, чем моя к Мэту, в очередной раз заставила меня задуматься о странной похожести наших судеб, о том, что в лихорадке и неразберихе родительских тягот они с Люсиль, совсем как мы с Эрикой, сумели найти для себя новый источник радости.
Но усталость Люсиль была совсем не похожа на усталость Эрики. В ней было что-то экзистенциальное, что-то более глубинное, чем хроническое недосыпание. Виделись мы нечасто, примерно раз в два месяца, при этом она всякий раз звонила мне за несколько дней, чтобы условиться о встрече. В назначенный час я отворял дверь и видел ее на пороге с пачкой стихов в руках, всегда бледную, напряженную, скованную. Немытые волосы небрежными прядями висели вокруг лица. Она вечно носила джинсы и ужасные старомодные блузки немарких расцветок, но даже эта неряшливость не умаляла ее прелести. Меня восхищало в ней полное отсутствие суетного тщеславия. Я всегда был рад ее видеть, но каждый такой визит лишний раз напоминал Эрике, что она для Люсиль более не представляет никакого интереса. Они вежливо здоровались, потом Люсиль стоически выслушивала вопросы Эрики про маленького Марка и давала на них точные односложные ответы, а потом целиком переключалась на меня. В ее стихах, скупых и вместе с тем звучных, царила полная отрешенность. Безусловно, в них должны были пробиваться какие-то автобиографические ноты. Так, например, в одном стихотворении речь шла о мужчине и женщине, лежащих в постели. Они лежат рядом, они не спят, но при этом не говорят друг другу ни слова. Они молчат, боясь потревожить друг друга, и в конце концов женщина чувствует в этой предупредительности подтверждение того, что мужчина знает ее мысли. Досада на него мучит ее, а он тем временем спокойно засыпает. Люсиль назвала это стихотворение "Не сплю и знаю". В некоторых стихах вдруг появлялось комическое существо, которое Люсиль называла "оно". "Оно" скулило, не отпускало, пиналось, плевалось, словно заводная игрушка, механизм которой пошел вразнос и с которой невозможно справиться. Я понял, что "оно" — это дитя. Разумеется, Люсиль ни единым словом не обмолвилась о том, что в стихах может быть что-то личное. Она скорее воспринимала их как некие изделия, которые с моей помощью можно поворачивать то так, то эдак. Меня восхищала эта холодность крови. Всякий раз, когда она улыбалась про себя, читая какую-то строчку, я тщетно пытался проникнуть в природу ее юмора. Даже сидя с ней рядом, я чувствовал, что она где-то там, впереди, а я бегу следом. Я смотрел на нежный пушок волос, покрывавших ее тонкие руки, и в который раз спрашивал себя: почему я никак не могу ухватить эту ускользающую суть?
Читать дальше



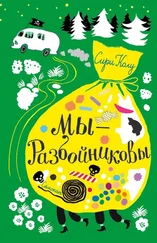




![Сири Петтерсен - Поток [litres]](/books/391409/siri-pettersen-potok-litres-thumb.webp)



