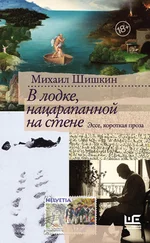Толстой о гельветах: “Швейцарцы — непоэтичный народ”.
Достоевский: “О, если б вы знали, как глупо, тупо, ничтожно и дико это племя! Мало проехать путешествуя. Нет, поживите-ка! Но не могу вам теперь описать даже и вкратце моих впечатлений; слишком много накопилось. Буржуазная жизнь в этой подлой республике развита до nec plus ultra. В управлении и во всей Швейцарии — партии и грызня беспрерывная, пауперизм, страшная посредственность во всем; работник здешний не стоит мизинца нашего: смешно смотреть и слушать. Нравы дикие: о, если бы вы знали, что они считают хорошим и что дурным…”
Парадиз наизнанку. Или другое представление о спасении души?
В Цюрих и Женеву русский путешественник привозит с собой в багаже опыт предков, поровших и поротых, но дружно тянувших веками лямку отечества. Вековая царская служба из поколения в поколение отбирала и тело, и волю, и мысли, но давала взамен наполненность души и праведный смысл существования. То, что послам с берегов Рейна казалось в России деспотией и рабством, воспринималось на Москве-реке самоотверженным участием в общей борьбе, где царь — генерал, а все остальные — его дети и солдаты. Отсутствие частной жизни компенсировалось сладостью погибели за родину. Протяженность отечества в географии и времени была залогом спасения, всеобщее неосознанное рабство горько для тела, но живительно для духа.
Но вот счастливому детству воюющей со всем светом нации приходит конец — немцы на русском троне объявляют “вольность”, сперва дворянскую, а через сто лет поголовную. Начинается испытание дармовой свободой. Привычной к Службе душе задается новый вопрос: для чего жить? Очевидный на фоне Альп ответ: для себя, для детей — вовсе не представляется очевидным на берегах Волги и Невы. По страницам русских романов разбредаются, гонимые кириллицей, “лишние люди”.
Ценности частной жизни, символом которых Карамзин в русском сознании сделал Швейцарию, поставлены в России под сомнение. Внезапная пустота под ложечкой вышедшего в отставку народа требовала замены Службы чем-то не менее возвышенным. Просто жизнь сама по себе, в ее “швейцарском” виде, преломилась в русском зрачке в тошнотворное бюргерство, в лишенное одухотворяющего смысла презренное мещанское существование.
Русско-швейцарскую границу сторожат, подобно васнецовским богатырям, привитое великой литературой презрение к “аисту на крыше”, очевидная бессмысленность “трудодней” при любом режиме и генетическая предрасположенность к высоким идеалам. Устами швейцарского гражданина Герцена, “тяглового крестьянина сельца Шателя, что под Муртеном”: “Но спрошу, в чем их дело, в чем их высшие интересы? Их нет…”
С первой русской “перестройкой” — реформами Александра II — заканчивается многовековая изоляция. Заграничный паспорт, стоивший при Николае 500 рублей, за пять целковых не выправляет себе разве что ленивый. Население демократизируемой царем империи получает возможность самолично пощупать ценности “швейцарской” цивилизации. Впервые в истории за рубеж огромная масса русских отправляется не в виде армии, но в штатском. Русские за границей: когорта посвященных, узнающих друг друга с полувзгляда, перекати-Альпы с опричниной в прошлом и Башлагом в будущем, туристическая группа, одержимая спасением души.
Многоязычная Швейцария считается провинцией великих европейских культур и столицей педагогики. Женевские и лозаннские пансионы переполнены русскими отпрысками. Получение Надеждой Сусловой докторского диплома производит эффект взорвавшейся бомбы. Цюрих и другие университетские города переживают нашествие “казацких лошадок”, как назовут здесь русских студенток. Высшие учебные заведения наполняются местечковой и разночинной молодежью из неслыханных дыр необъятной империи.
Однако неладно что-то в швейцарской системе образования: учатся на врачей, кромсают трупы гельветов в анатомическом кабинете, чтобы служить ближнему, облегчать болезни страждущему, а становятся бомбистками. Герцен в “Цветах Минервы”: “Эта фаланга — сама революция, суровая в семнадцать лет… Огонь глаз смягчен очками, чтоб дать волю одному свету ума… Sans crinolines, идущие на замену sans-culotte'aм. Девушка-студент, барышня-бурш ничего не имеют общего с барынями-Травиатами… Студенты-барышни — якобинцы, Сен-Жюст в амазонке — все резко, чисто, беспощадно”. Почти все, недоучившись, бросают учебу-безделицу и отправляются домой делать “дело”, заканчивая свои университеты, по отечественной традиции, в тюрьмах и ссылках.
Читать дальше

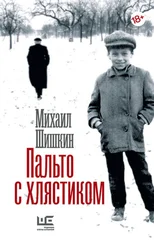

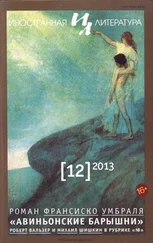
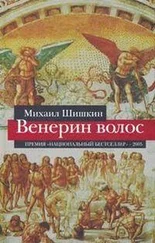
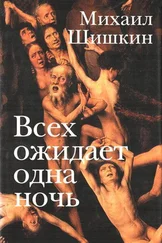
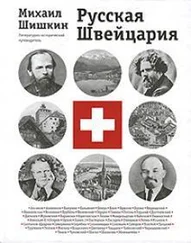
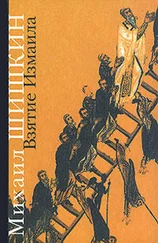
![Михаил Шишкин - Буква на снегу [litres]](/books/413547/mihail-shishkin-bukva-na-snegu-litres-thumb.webp)