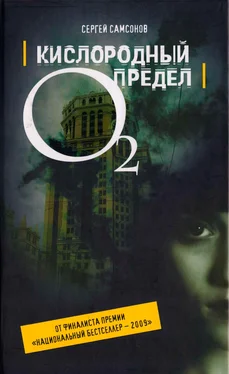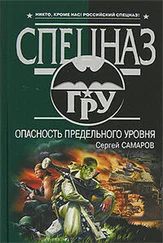— Фу! Может, не надо? — взмолилась она.
Она из тех, кто не выносит вида разрушаемой плоти, не принимает вмешательства в скрытое, тайное, нутряное, в жизнь под кожей, под якобы непроницаемым защитным покровом.
— А когда отец потянул кожу вниз, как будто оторвал от пола лоскут линолеума — такое же движение бесцеремонное, — одной студентке стало плохо. Ее под руки подхватили, нашатырь.
— Ну тебе-то — выродку хирургов, — разумеется, не стало.
— Не стало. Отец же постоянно комментировал еще… ну.
для студентов. «Что, тонкая работа? — говорит. — Забудьте. Где тут тонкость — ну-ка посмотрите», — и с этими словами — раз все это дело книзу. «Плоть — как новорожденный ребенок, — говорил он. — Мускулы, апоневроз, сосуды — то же самое. Обращение с ним требует решительности, быстроты и непрерывности манипуляций. Будете его робко теребить, он будет орать непрерывно, даже как бы и в отместку вам. Ну а если вы его одним движением со спины на живот — заткнется, почувствовав уверенную руку». Ну и вот, а когда это дело закончилось, тетя Галя такая подходит ко мне: что, Мартынчик, хочешь, как папа?
— Извращенцы. И что ты ответил?
— Ну, подумаю, ответил.
— Ты еще колебался?
— Ну, тогда я в футбольную школу ходил. Марадона, Федор Черенков.
— Вот и стал бы. Я бы теперь миллионершей была. Жили бы в Милане.
— Ну и как бы ты разделяла интересы?..
— Да уж как-нибудь разделила бы ради миллионов.
— Ты, однако, цинична.
— Да, вот так. А что? Встречалась бы с подругой, такой же футболисткой… что вы там себе вечно ломаете-рвете… ну, вот это вот слово смешное. Вот. Встречалась бы и говорила: «Слушай, у моего опять мениск».
— Да, уже не выйдет так.
— Ну, ничего переживу.
— А как же миллионы? Блеск?
— А у меня припадок бескорыстия, на годы. Мне тебя подавай. Самого.
11. «В том гробу твоя невеста»
Его план был прост, как удар кулаком по допотопному ламповому телевизору, чтобы тот снова начал показывать картинку: когда объявят титульного гостя Форума — Григория Семеновича Драбкина, Сухожилов первым выскочит на сцену и призовет крупный бизнес умерить свои аппетиты, что не на шутку угрожает культурной безопасности страны и эстетическому здоровью нации. И дальше в этом духе… Про «Черный квадрат» и «Бубновый валет», про Кончаловского и Ларионова, про Кабакова и Булатова, Башилова и Рабина, которых член Совета Федерации Борис Сергеич Федоров выставляет вон на холод из государственных музеев и частных галерей, производя тем самым действие, обратное изгнанию Христом торговцев из святого храма.
Их замешательство продлится пять минут, ну, три; он, Сухожилов, тоже в списке выступающих, распорядители его тут знают, и тамошние гварды не станут сразу выводить его из зала, как бомбиста с гнилыми помидорами. За эти пять минут он либо заставит себя слушать, либо — смотри пункт первый, да; ну, Зоя малость приторчит, возможно, даже благодарно просияет.
Как только объявили Гришу, он вскочил, без объяснений увлекая Зою за собой, пронесся по проходу, словно шаровая молния, — маньяк с похищенным ребенком; блеснули изумленно чьи-то сильные очки, возможно, драбкинские, но Сухожилов в точности не разглядел, и вот уже бомбист и антиглобалист взлетел на возвышение, узурпировал трибуну, и в эту самую секунду, когда все первые ряды раскрыли рты, реальность взорвалась, непоправимо раскололась; закинув голову, Сергей увидел, как брызжут стекла потолка, — по-прежнему из первых представительских рядов и из президиума смотрели все на Сухожилова, так, словно, выпорхнув из клетки, заметалась у них над головами канарейка, — он ждал бликующих осколков, зеркальных гильотин, но по лицу и по плечам хлестнуло чем-то средним между градом и снежной, болезненно-колкой, крупой. Задергаться, вскочить, остолбенеть, по сути, не успел никто, а сверху, с неба, с балок, перекрытий уже выкидывали снасти, скользили вниз по тросам мощные, пятнистые, в бронежилетах люди-пауки; в дверях возникли тоже, мгновенно рассыпаясь по периметру, такие же пятнистые военные, с компактными, лишенными прикладов «калашами», с кружками ртов и пулями литых свинцовых глаз в трех дырках трикотажных масок. «Все на пол! Сели! Сели!» — раздался деловитый, отгоняющий какой-то крик мастеровых, которые бросали с крыши лист железа. К ним опустились на трибуну двое, схватив обоих, как кутенка, за шкирмо, его и Зою; глаза в отверстиях приблизились к лицу лже-Драбкина, как сверла, — «Не он! Не он! Другой!» — стащили их с трибуны, освобождая словно место для нового оратора, поволокли, остановили, заставили нажимом опуститься на колени.
Читать дальше