Другой раненый, по фамилии Вериго, все эти дни был в концессии. Там тоже шел непрерывный бой. Люди не раздевались ни днем, ни ночью и почти не спали. Нельзя было разбивать бивак — как только ставили палатки, туда начинали падать снаряды. Огнем управляли из города — китайцы подавали своим знаки, куда стрелять. Людей и лошадей приходилось прятать за стенами, вдоль улиц и в домах и располагать как можно реже. Но и в этом случае они несли потери почти такие же, как и на позиции, потому что во всех концессиях не было ни одного уголка, не обстреливаемого орудийным или оружейным огнем. Дома служили плохою защитою. Пули летели в окна и двери, а снаряды пронизывали стены насквозь. Женщины и дети прятались в подвалах.
У Вериго обе руки привязаны к груди. Несчастный ничего сам не может делать, ему помогают раненые товарищи, но он еще и шутит над своей беспомощностью. Он был ранен на мосту разрывом шрапнели.
Удивительно, что китайцы превосходят нас в вооружении. Вот буквально слова Вериго:
— У них новейшая артиллерия и большой запас снарядов, доставленных немцами, а у нас устаревшие пушки. На их пять выстрелов отвечали одним. О ружьях и говорить нечего, у каждого кули есть теперь маузер или манлихер!
Вокзал соединяется с городом плавучим мостом, который сделан из барок, чтобы можно было разводить его для пропуска джонок. Мост постоянно обстреливался, и там погибло много наших солдат. Каждый день на него сверху по течению спускали пылающие лодки, нагруженные сухим камышом, и под огнем приходилось разводить барки.
Вместе с русскими ранеными в наш полевой лазарет перебралась и сестра, которая ухаживала за ними во французском госпитале. Она парижанка, ее все зовут просто Люси. Очень милая, простая, дельная, с красными от сулемы руками. Она кажется хрупкой, но без труда перестилает под лежачими ранеными. У нее некрасивая большая родинка на шее, которой она стесняется. Все время невзначай прикрывает рукой. Не знаю, как она попала в Китай. По-русски почти не говорит, но все здесь ее очень полюбили.
Вчера ночью один солдат в лазарете начал истошно кричать. Наши палатки совсем рядом. Спать было невозможно, я вышел посмотреть, в чем дело. Кричал несчастный парень, которому накануне ампутировали ноги. Его пытались успокоить, но он только еще сильнее орал и дрался, так что пришлось силой скрутить. Ему впрыснули морфий, но он не успокаивался, перебудил всех раненых. Доктор Заремба разозлился и ушел со словами:
— Да пусть себе кричит. Когда охрипнет — перестанет!
Тогда Люси села рядом с ним, обняла голову и стала успокаивать сначала по-французски, а потом повторять те немногие русские слова, которые знала:
— Да? Нет? Хорошо! Хорошо! Папа! Мама!
Бедный безногий, которого, наверно, еще женская рука, кроме мамы, и не гладила, глядел на нее сумасшедшими глазами, потом успокоился, замолк и заснул.
В лазарете каждую ночь кто-то умирает. Их относят в отдельную палатку, но на такой жаре они долго не выдерживают. Сегодня хоронили восемь человек. Двоих из них я видел еще вчера утром живыми и здоровыми, а вечером их принесли на носилках: один был безнадежно ранен в горло пулей навылет, другой в живот. Первый умер еще вечером, а второй, капитан Попов, страдал до самого утра, стонал и хрипел то без памяти, то приходя в себя. Он недавно женился.
Не было досок для гробов — хоронили в мешках. Солдаты несли мертвецов и прятали носы в фуражки. Один из мешков был совсем маленьким — после разрыва снаряда целыми остались только плечи с руками и голова, а все остальное разлетелось.
Закопали их в полуверсте от лагеря на пригорке. Сколотили один на всех крест, сунули его в сухую глину. Закопали неглубоко — не было сил на солнцепеке копать глубокую яму.
Сашенька, ты знаешь, я слушал заупокойное бормотание, смотрел на солдат, стреляющих над могилой залпом в небо, а в голову лезли совершенно неподобающие минуте мысли. Вот американские индейцы стреляли в небо из луков, чтобы отогнать прочь злых духов, а у нас стрельбу из ружей на военных похоронах называют прощальным салютом. И это тот же самый обряд, какой отправляли индейцы, когда пускали в небо стрелы. И тем, кто сейчас в мешках лежит под глиной, ничего этого не нужно.
Обратно возвращались молча, и каждый думал о том же: что вот, может быть, завтра и его понесут в овсяном мешке и будут от вони прятать лица в фуражки.
Сейчас, когда пишу тебе эти строчки, в палатку пришел мой товарищ, Кирилл Глазенап, я тебе писал о нем. Он совершенно подавлен. Рассказал, что переводил допрос схваченного нашими солдатами в соседней деревне китайца, который уверял, что он не ихэтуань, но того все равно только что расстреляли.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу



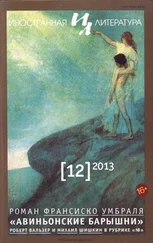






![Михаил Шишкин - Буква на снегу [litres]](/books/413547/mihail-shishkin-bukva-na-snegu-litres-thumb.webp)
