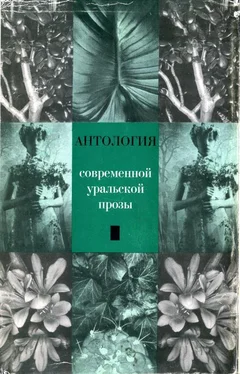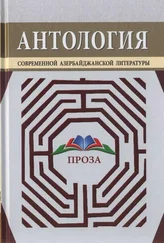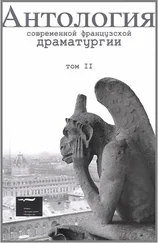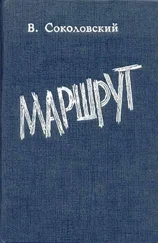Но сейчас бинокля не было под рукой — отец забрал его с собой, когда уходил из дома, да и зима, окно замёрзло, ничего не видно, лишь смятые жёлтые точки в обрамлении чёрных провалов. Уже половина одиннадцатого, если пройдёт ещё полчаса и она не позвонит, то остаётся одно — лечь в постель, накрыться с головой одеялом и разреветься. От несправедливости, от того, что он один и никому не нужен, от того, что он любит, а его нет, и снова мелькнула мысль, что жизнь не представляет из себя ничего хорошего, что она слишком тяжела и только и делает, что разрушает людские судьбы, как, к примеру, это получается с ним. Но если ещё неделю назад, думая о таких вещах, он ощущал холодок в груди и отчаянную слабость в коленках, то сейчас отнёсся к этому как к чему-то должному, уже знакомому, ощущение перешло в знание, а знание принесло с собой уверенность в том, что так и должно быть и что это навсегда...
— Иди, — сказала мать в приоткрытую дверь, — тебя к телефону... Голос Нэли в трубке был далёким и слабым, ему приходилось переспрашивать, это ей не нравилось, и поговорили они совсем немного, минуты две, не больше. Но главное, что завтра она ждёт его, в девять вечера, не раньше, можно и позже, но не позже, чем в десять, ладно? — Я не опоздаю, — сказал он, — я приду в девять. Она повесила трубку, а он обернулся и увидел, что мать так и стоит в коридоре и смотрит на него пристально и тревожно. — Ты куда это собрался?
— Меня позвали в гости, — как можно спокойнее ответил он, — встречать Новый год. — Кто? — Одна знакомая.
— А что это за знакомая? — въедливо продолжала выспрашивать мать.
— Какая разница? — грубо ответил он и пошёл в свою комнату. — Ах, так, — послышалось вдогонку, — тогда... Он знал всё, что она сейчас скажет, но ему было всё равно. Он пойдёт завтра к ней, чтобы ни случилось. Пусть его закроют на ключ, пусть отберут одежду. Впрочем, для этого он уже слишком большой. Просто мать волнуется, её можно понять. — Мама, — сказал он, вновь выйдя из комнаты, — прости меня, я погорячился. — Она стояла и плакала прямо тут, в коридоре. — Ну же, — и он начал ласкаться к ней, и она наконец засмеялась, провела ладонью по его волосам и сказала: — Урод! — А потом, ещё через мгновение: — Дурак!
— Урод и дурак, — согласился он, — но ты только меня ни о чём не спрашивай, ладно?
— Я же волнуюсь, — совершенно резонно ответила мать. — А-а, пустяки, — и он махнул рукой. — Скажи одно: она тебя старше? — Да, — мотнул он головой.
Лицо матери изменилось и стало каким-то жёстким: — Смотри, — вздохнула она, — это может плохо кончиться!
— Да ты что? — засмеялся он и вдруг схватил её на руки и закружил по коридору.
— Оставь... Сумасшедший... Поставь на место! — Наконец мать вырвалась и, красная и растрёпанная, дав ему шутливый подзатыльник, ушла к себе в комнату. Через полчаса, когда он уже лежал в постели, она снова вошла в его комнату и спросила как о чём-то чрезвычайно важном: — Сына, а в чём ты пойдёшь? — Не знаю, — засмеялся он, — в чём-нибудь. — Ладно, — сказала мать, — подумаем.
И она подумала, по крайней мере, она собственноручно выгладила ему серый костюм-тройку, надетый им всего раз или два, приготовила рубашку и галстук, и вечером следующего дня, когда он стоял у зеркала и смотрел на то, как это новое обличье изменило и лицо его, и фигуру, она стояла рядом, тихая и торжественная, сама уже, впрочем, нарядившаяся, накрасившаяся, не по-домашнему красивая. — Ты забыл купить цветы, — вдруг сказала она. Он молча посмотрел на мать и растерянно улыбнулся. — Ладно, — махнула она рукой, — у тебя всё ещё впереди. Иди, мне тоже пора.
Он поцеловал её в щёку и вышел на улицу. Правую руку приятно оттягивала большая сумка с тортом и бутылкой шампанского: сам бы он, конечно, никогда не догадался, сумку собрала мать. Сейчас она тоже пойдёт в гости, неизвестно, куда и к кому, дом будет встречать Новый год без света, ёлка так и останется незажженной, а завтра вечером они её зажгут, да, это будет всего лишь завтра вечером, но это будет уже другая жизнь и другой год, другое время и другой он, хотелось смеяться, тяжесть сумки не чувствовалась, мешал только галстук, в школе их уже второй год — старшие классы, так положено — заставляли ходить в галстуках, тёмных и мрачных, каких-то похоронных, но сейчас он был в ярком, красивом, вот только плотно затянутый узел тёр шею, но ничего, придёт, распустит узел, расстегнёт воротничок у рубашки, ведь это прилично, не так ли?
Он ехал в трамвае, тоже каком-то праздничном, с праздничным и смеющимся людом. Через одну уже пора выходить, за окнами темень, а когда вышел, то попал в самую круговерть только что начавшейся метели, и пришлось одной рукой придерживать шапку, а другой плотно прижимать к себе сумку. Но всё это чепуха, да, всё это самая настоящая чепуха, если ты в первый раз идёшь встречать Новый год не дома, да и не с одноклассниками, а с самой красивой женщиной на свете, самой нежной, самой доброй, самой умной — кто хочет, пусть подбавит банальностей, ему же не хватает слов, фраз и словосочетаний, не хватает места в груди, чтобы вместить туда всё, что чувствует, ощущает сейчас, снег залепил глаза, ветер бьёт прямо в лицо, но это чепуха, да, самая настоящая чепуха, ведь остаётся совсем немного: пройти через подворотню, чёрную, мрачную, страшную ночную подворотню, пройти бегом, пробежать, миновать на бегу, вот так, одна нога здесь, другая — там, там-сям, сям-хлам (самое смешное на свете — вот так соединять слова в пары, на ходу, на бегу), выйти на еле освещённую улицу и идти по ней целый квартал, в конце которого и будет её дом. С уютными окнами, с фонарями, что горят у подъездов.
Читать дальше