«Странная фраза» обладает и странной аффективной пунктуацией, также не всегда соответствующей нормам французского языка. «Меня ведет свободное движение фразы, а не солидная структура французского синтаксиса, — пишет Грак, — который требует, чтобы, прежде чем начать шить, полотна были уже соединены вместе. А если я следую всего лишь своей естественной склонности давать каждому предложению, каждому члену фразы максимум автономии, как о том свидетельствует увеличивающееся употребление тире, которые словно подвешивают синтаксическую конструкцию, заставляя фразу в отдельные моменты ослабить вожжи?» [20] Gracq J. En lisant en ecrivant. Corti, 1980. P. 255.
И действительно, часто встречающееся в одной фразе употребление тире, двоеточия и курсива заставляет услышать интонацию голоса визуально [21] В романах, написанных позже, все это исчезает. Фраза становится более жесткой, сдержанной, из нее уходят эпитеты, призванные создать в его первом романе атмосферу тайны. Автор отказывается от стилистических ухищрений и игр с синтаксисом.
.
Можно было бы предположить, что курсив у Грака — отчасти наследие Андре Бретона. Об использовании курсива Бретоном он напишет позже, характеризуя его как «гальванический импульс», «нервное потрясение, преображающее и оживляющее фразу», которое носит характер «настоящей сублимации». Курсив возникает из реального движения мысли, через него автоматизм прорывается в речь. И сюрреальность использует этот автоматизм, потому что все виртуальные значения слова активизируются поверх его обыденного значения, которое «на секунду оказывается приостановленным» (эссе «Андре Бретон»), Часть этих наблюдений можно было бы отнести и к тексту романа «Замок Арголь». Впрочем, у самого Грака присутствует и иное значение: курсив миметически имитирует движение мысли (это не послание читателю, но жест, своего рода подмигивание, неожиданно устанавливающее между читателем и автором отношения близости, как в частном разговоре, заставляющее читателя услышать нечто большее, чем он слышит обычно). Курсив обозначает находку, вокруг которой кристаллизуется вымысел. Иногда это может быть способ отстраниться от собственных слов или же знак абсолютного совпадения, эйфорического и даже магического, между предметом увиденным и его внутренней сущностью (ср.: «она производила не поддающееся никакому определению впечатление высоты»; «В небе каждая звезда заняла свое место с той же точностью, что и на звездной карте, создавая столь убедительную картину ночи, какой ее знали с давних пор…») [22] См., в частности: Collot М. Les Guetteurs de I'horizon // Gracq J. 2. Un ecrivain moderne. Paris: Leffres modernes, 1994. P. 123.
.
Читатель этой книги несомненно обратит внимание еще на один способ отстранения в граковском тексте: сокрытие авторского «я» за грамматическими формами модальности. Речь идет о чуть ли не избыточном употреблении модальных слов и словосочетаний, типа «кажется», «словно», «как будто бы», «по всей видимости» и проч., отражающих тот дорогой сердцу Грака зазор, что существует между очевидным и невыразимым. Или, если воспользоваться его же словами, между «непреодолимой и тем не менее непонятной необходимостью». Эти формы модальности стали своеобразной визитной карточкой граковского письма, подобно тому как грамматическая форма Imparfait, как однажды заметил Пруст, всецело определила стиль Флобера.
И наконец, ритм «странной фразы» поддерживается в том числе и фонетическими созвучиями, к которым всегда был очень чуток Грак. Само название замка, хотя и существующего в действительности (впрочем, не как замок, а как небольшое селение), писатель выбирает по созвучию, которое к тому же заключает в себе анаграмму центрального для романа образа священного Грааля. По тому же принципу он создает и вымышленное название края Сторван, которое должно воздействовать на читателя своей фонетикой (сам Грак признавался в своем пристрастии к созвучиям с буквой «р»). Даже имя героини Гейде (во всяком случае, так утверждает автор) он выбирает по фонетическому принципу, всячески отрицая при том семантическую интерпретацию, которую ему пытаются «навязать» критики (Heide по-немецки означает «равнина»). Грак не занимается герменевтикой, но он вслушивается в созвучия, заставляя имена отражаться друг в друге: Грааль — Арголь, Гейде — Герминьен.
Настало время задаться вопросом: каково место действительности в этом закрытом, герметическом романе? И присутствует ли она здесь вообще? Казалось бы, сама местность, где находится замок, напоминает Бретань, которую Грак впервые посетил в 1 931 г. Но в период, когда автор работает над книгой, Арголь для него — не более чем название, найденное им в расписании движения автобусов. Что касается самого замка, роскошного и заброшенного, то им мог быть и какой-либо бретонский замок, но вместе с тем это и идеальный замок в стиле историзма XIX в., организованный, правда, уже современным архитектором в соответствии с логикой световой игры [23] Murat M. Op. cit. P. 162–163.
. Медную облицовку столовой замка Арголь Грак действительно как-то увидел в Бретани, в одном маленьком провинциальном особняке. И этот спокойный провинциальный декор порождает в романе огневую атмосферу, демонстрируя всю неоднозначность взаимоотношения у Грака реального и воображаемого.
Читать дальше



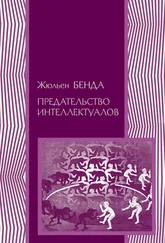

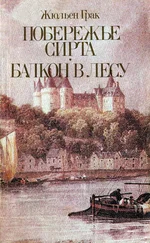




![Буало-Нарсежак - Замок спящей красавицы [Волчицы • Дурной глаз • Замок спящей красавицы • Фокусницы]](/books/424831/bualo-thumb.webp)
