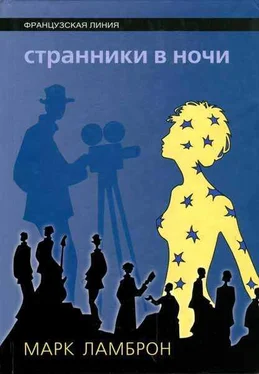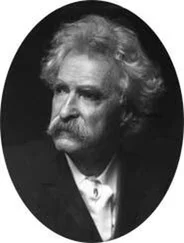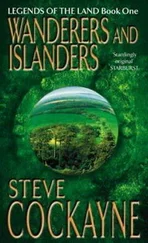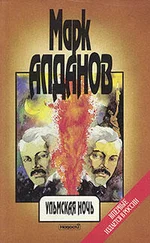Drive on, говорила Тина: ее пробирала дрожь. И мы поворачивали в сторону Тибра. Я запускал руку в ее волосы, она притворно уворачивалась, потом откидывала голову назад с тем чуть приглушенным смехом, который я так любил. Вновь мы слышали шум города, вдали сигналили автомобили, мимо проносились «ламбретты» с большой фарой спереди, точно одноглазые циклопы. Я припарковался на острове Тиберина. Вода, накопленная в шлюзах, обрушивалась небольшим водопадом под мостом Рото. Ниже по течению виднелся фонарь на верхушке мачты: к набережной была пришвартована чья-то лодка. Деревья вдоль реки поникли от зноя. На обшарпанных стенах красовались полустертые, словно оставшиеся со времен Каракаллы, надписи и обрывки плакатов: «…здрав… Дуче», «Бартали — чемпион». И еще — нет, я не забыл — афиша фильма Билли Уайлдера «Некоторые любят погорячее», на которой были изображены Джек Леммон и Тони Кертис в женских нарядах. Какой-то проказник пририсовал поверх платьев гигантский фаллос Приапа, торжествующий cazzo помпейских фресок.
От берегов реки тянуло болотным запахом. Призрак опустошительных эпидемий, некогда терзавших Рим, все еще носился над этими местами. It's swampy [16] Тут как на болоте (англ.).
, со смехом говорила Тина. В такие душные ночи Лациум превращался в болотистую, дышащую лихорадкой Луизиану. И я чувствовал, как во мне зарождается болезнь. Но тогда я еще не знал ее названия.
26 июня 1960 года
Звонок со студии: Тину опять не берут. Она пробовалась на роль в фильме Латтуады. Взяли шестнадцатилетнюю итальянку, которая уверяет, будто ей уже двадцать. Но все прекрасно понимают, что она врет. Получается, Тина для этой роли уже старовата.
Она занервничала.
Сегодня вечером, пока я ждал Тину, у меня возникли тревожные мысли. Мне все больше и больше кажется, что она стремится не жить в самом деле, а существовать опосредованно. Она входит в комнату — и запечатлевается в глазах окружающих. Она позирует фотографу — и остается на фотографии. Хочет сниматься на «Чинечитта» — и предпочитает костюмные роли. Это всегда сдвинутое, преломленное изображение. Позавчера, на виа Боргоньона, она шла не отрывая взгляда от собственного отражения, которое послушно следовало за ней из витрины в витрину, то исчезало, то появлялось снова, точно в другой реальности шла по улице другая девушка.
Ночь с Тиной. Мы пьем. Занимаемся любовью, но на этот раз не так бурно и поспешно. Сплетаясь, крутясь, свиваясь в узел, как змеи. Тело становится другим, как будто вышло из волшебной купальни. За привычным лицом проглядывает новое лицо, голова запрокинута, рот раскрыт, глаза блуждают. Если бы я сейчас ее сфотографировал, вышло бы что-то совершенно неожиданное. Это было бы похоже на старый, черный, как сажа, дагерротип, на котором изображение словно пробивается сквозь облако темных частиц.
И это облако все больше застилает мне взгляд.
2 июля 1960 года
Во время пробных заездов на Гран-при Бельгии Стирлинг Мосс сломал нос и обе коленные чашечки.
Накануне вечером Тина пришла в кафе «Стрега-Дзеппа» вместе с Ингрид, манекенщицей из Мюнхена. Ингрид — высокая стройная брюнетка с томным и одновременно жестким взглядом. Она едва говорит по-английски, и почему-то в ее устах этот язык звучит до странности резко.
Ингрид посмотрела на меня без всякой симпатии. Можно сказать, она меня не заметила. Зато с Тины не сводила глаз, пыталась ее рассмешить, но безуспешно. Тогда она изменила тактику, защебетала как подросток, как веселая подружка, и Тине это понравилось. Тут Ингрид вся расцвела, словно раскрывшийся бутон гвоздики, но она не резвилась — она охотилась. Жадно смотрела на Тину, так и тянулась к ней и с нетерпением ждала, когда я уйду. А Тина принимала ее внимание как должное, не выказывала удивления и при этом смотрела на меня.
5 июля 1960 года
Солнце затопляет город зноем. Пришло лето. На улицах дремотная тишь, как на Востоке; иногда вдруг заурчит мотор «веспы», а потом опять все смолкает. Одни только голуби расхаживают по безлюдным площадям, где слышен плеск фонтанов. В час, когда на раскаленных руинах трещат цикады, надо задернуть шторы и выжидать, спать. Рим вокруг нас — как громадный багряный зверь. Это не венецианская радость жизни, которую приносит с собой вода. Это цирк, где песок арены жадно впитывает темную кровь. Жара испепеляет скудную почву Лациума, на которой можно выращивать лишь самые неприхотливые культуры. Когда-то устье Тибра было очагом малярии. Такое впечатление, что она возвращается. Праздники теряют всякую прелесть на этом фоне — тучи пыли, красная земля, этрусские гробницы. Едешь в машине с откидным верхом под пальмами, будто в Африке. Люди обрызгиваются водой, чтобы не засохнуть на корню.
Читать дальше