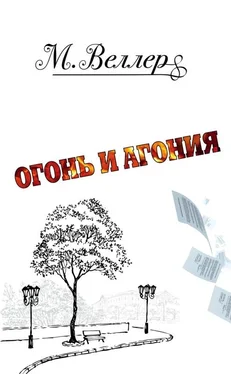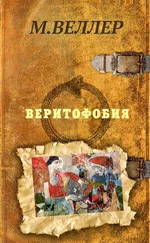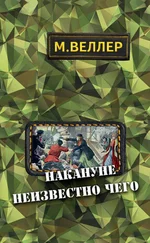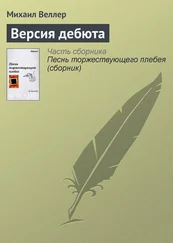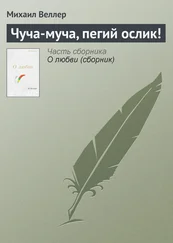Молодые были сначала до 25 лет, потом до 30, потом до 35, а драматурги молодые — до 40. То есть. Их вели 15 лет. А потом сливали в отстой. Все писатели это называли «Комиссия по борьбе с молодыми авторами».
Но! Были Областные конференции молодых авторов. И Краевые были, и Республиканские. А вершина карьеры «молодого автора» — участие во Всесоюзном совещании молодых писателей. Эти конференции и совещания выдавали особо отмеченным молодым талантам рекомендации для публикаций и изданий книг. Потом этими рекомендациями можно было подтереться.
То есть. Литературный лифт был пущен по отдельной, параллельной шахте: там тоже были таблички на этажах, но кроме табличек и нарисованных на бетонной стене дверей больше ничего не было. А с самого верхнего этажа шла сточная труба в канаву. Вот такое ложное русло, такая ловушка для безмозглой рыбы, плывущей по течению и заплывающей в тупик.
Все движение по работе с молодыми авторами, все эти конференции — это была весьма важная, заметная часть литературного процесса 1970-х. Вот потому только мы о ней говорим. При этом — руководителями таких комиссий и конференций были старые дуремары из бездарных литературных чиновников, бездарных письменников-неудачников, которые таким образом повышали свою значимость, чем-то себя занимали — и заодно прирабатывали, там за все деньги платили. (Исключения были единичны).
Раз в год выпускались литературные альманахи типа «Молодой Ленинград». Там печаталась в отрывках и стихах отобранная фигня, перед тем как навсегда кануть в Лету. Редко-редко что хорошее прорывалось.
Вот почему, кроме отъезжантов, я вспоминаю о работе с молодыми. Потому что жизнь, рост, реализация литературной молодежи — это тоже важнейший, первейший показатель состояния литературы: как обстоят дела, как дышится, чего ждать.
Понимаете, звезды 60-х — звездное поколение Евтушенко-Вознесенского-Аксенова-Гладилина — как-то резко слиняло, поблекло, оказалось не у кассы, отодвинуто и задвинуто, мало видно и мало слышно. Они уже редко печатались, не производили шума, воспринимались как гении вчерашнего дня. Их цветение и кипение с началом семидесятых прекратилось, они перестали быть властителями дум и главным предметом литературных споров.
А кто вышел на авансцену? Кроме уродов, обслуживающих заказы Партии, так от них и фамилии сейчас не вспомнишь, и тогда их знать никто не хотел.
Это Владимир Маканин. Он восходил долго, медленно, постепенно; он неплохо издавался, нравился узкому кругу интеллектуалов, не был замечаем официальной критикой, не был ею понят совершенно.
Маканин-то кончал матмех МГУ, он рождения с 1937 года — поколение, которое последним успело прицепиться хоть к «колбасе» трамвайной оттепельных свобод и льгот. И судьба его литературная, писательская эволюция, очень интересна и показательна. Тем более что до сих пор никем не понята и не описана толком. Обидно. Но бывает.
Литературным кумиром этого поколения однозначно был Хемингуэй (это кроме как у деревенщиков, разумеется). Короткая фраза, лапидарный стиль, минимум деталей, никаких красот, ноль пафоса, скупость эмоций — и абсолютная, голая, простая честность.
И вот Маканин пишет повесть «Прямая линия». Она вроде и молодежная, вроде и производственная, вторично то есть, это уже выработано — но: новая эстетика. Абсолютно голая, отшелушенная фраза. Ноль деталей и подробностей. Ноль переживаний и чуйств.
Аналогично «Старые книги». То же самое эстетически — плюс капля иронии, плюс отдельные крапинки деталей в стилистике еще Мериме: «Глазки серые. Славненькие глазки». Вот и весь портрет.
И вот от этого абсолютно голого ноль-стиля, где фразы — один скелет, ни грамма мяса, — Маканин переходит к рассказам с сюжетом-кульбитом. Где деталей уже чуть больше, где картину уже видно.
Главные его рассказы очень хороши, и заслуживают того, чтобы мы их упомянули, перечислили. Это:
«Дашенька». «Наша старушка хорошо декламирует». «Ключарев и Алимушкин». «Река с быстрым течением». «Отдушина». «Гражданин убегающий». «Антилидер». Еще десяток есть блестящих.
Все они построены на парадоксе, на двойственности происходящего, на переходе смысла в обратный. «Дашенька»: бедная невзрачная машинисточка и красавец-физик, завидный парень, герой нашего времени — и вот сначала она робко о нем мечтает, угождает всячески, старается стать полезной всеми путями — и в конце подчиняет себе, порабощает, ставит под каблук и снисходительно вершит свою судьбу, где отводит ему место по своему усмотрению.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу