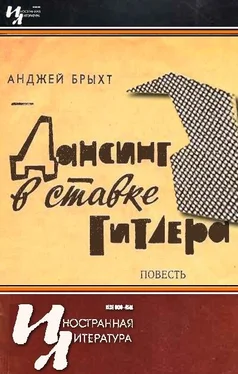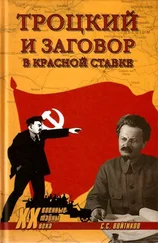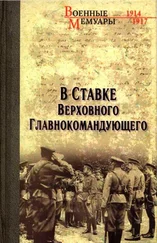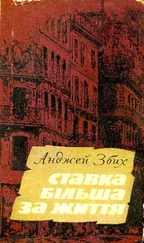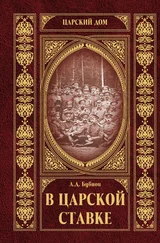Он был высокий и сильный, в мягком костюме стального цвета, воротничок на коричневой шее отливал голубоватой белизной.
— Виноват, — сказал он и улыбнулся, вовсе даже на нас не глядя.
Мы вдруг отпрянули, как спугнутые голуби, а он, милостивый и благородный коршун, вложил маленький, невидимый ключик и открыл дверцу, мягко, таким красивым и привычным движением, сел в машину, и сразу шестицилиндровый мотор тихо заработал под капотом.
«Тихо работает, — подумал я, — шестерка всегда на холостом ходу тихо работает».
А может, я сказал это вслух, потому что он выставил голову в окно:
— Подвезти?
Тогда я увидел спереди его лицо, выделанное, как хорошая кожа, — ни одной морщинки лишней, ровно столько, сколько надо, чтобы было красиво; виски, подернутые сединой, или, может, это никель блики отбрасывал.
Я испугался и покачал головой из стороны в сторону, я просто тряс ею, даже когда он исчез в пустой улице, когда исчезла легкая пыль после него и запах чистого, «десертного» бензина.
Теперь, когда я здесь, чтобы спихнуть, скинуть, свалить с себя воспоминание о моем позоре, похоронить его под развалинами величайших бункеров и сыграть над его убогой, хотя и фундаментальной, могилой «Saint James Infirmary» и «Вот приехали уланы», а может, и «Марию-Хелену» вдобавок, если будет охота и не пойдет дождь, — теперь-то я знаю, что совершил тогда вторую ошибку, не поняв по лицу Анки, по лицу неподвижному, устремленному в поворот улицы, где еще трепыхался отброшенный машиной клочок бумаги, не поняв по ее лицу того, что она думала, чувствовала, чем жила, чем была, и вообще всего. Это была ошибка.
А не было бы ошибкой пойти в снятый у хозяина чулан, отвязать велосипеды, отделить от ее машины свою, сесть на этот старый, добрый, любимый велосипед, который был частью меня самого, и рвануть отсюда финишным спуртом, пройти на шестидесяти километр, а то и два, миновать пару поворотов, сменить пару дорог, вернуться в Августов, сесть на берегу Белого озера в туманных сумерках и, играя на гармошке, утопить воспоминание обо всей этой истории, которая не больше чем камешек в прибрежной воде.
Не было бы ошибкой сбежать вчера, после встречи с мотороллером «ламбретта». Не было бы ошибкой сказать этой девушке, когда она подошла ко мне, сидящему на свае разбитого мола, — не повернув головы, а только перестав играть:
— Катись отсюда, цыпочка.
Да, все это не было бы ошибкой.
Только разве тогда пришлось бы чего-нибудь стыдиться? И о чем-нибудь так вот думать? И было бы тогда от чего поумнеть?
Мы тут же поехали к озеру Мамры, там на берегу стояли мотороллеры и машины, длинный пирс гудел от босых ног, вся эта публика прыгала в воду, над которой вздымался тонкий, молочный и редеющий слой тумана, вода на рассвете теплее всего именно в тот момент, когда встает солнце, это было утреннее омовение с воплями и бултыханием, потом они уплывали парочками к далекому островку, становившемуся с рассветом все отчетливее, и оставались там подолгу, машины терпеливо ждали, я тоже прыгнул в воду и почувствовал себя прекрасно, Анка плавала быстро, прежде чем я заметил, она уже отмахивала к острову, а за ней, будто акулы, кролем шли трое.
Я поднажал и догнал ее, но она не хотела возвращаться, я боялся, как бы не случилось что-нибудь неладное — она же столько пила, уморилась от танцев, судорога могла схватить и утащить ее на дно, я плыл с нею, все время внимательно глядя на ее лицо, исчезающее и выныривающее из воды, она плыла классическим брассом, те трое, как акулы, шли за нами, и я даже рад был этому — если бы с Анкой что случилось, было бы легче дотащить ее до берега.
На острове я увидел, что это малорослые и хлипкие парнишки; Анка криво усмехнулась и махнула им рукой, мы отошли в густой, царапающийся лес, но наткнулись на полянку с палатками и потому пробрались подальше, сели там на пеньках, немного дрожа от холода и растирая гусиную кожу.
— Не грусти, — сказала Анка, легонько хлопая меня по спине. — Ты странный, но ведь и я тоже. Может, по-иному, но тоже.
— И вовсе ты не странная, — сказал я, растирая ей плечи.
А сам думал: «Черт знает, до чего странная».
— Ты меня не понимаешь, — сказала она, стуча зубами.
— Понимаю.
А сам думал: «Нисколько я ее не понимаю. Ну нисколько».
Она крепко прижалась ко мне, я ее обнял, в первый раз мы прикоснулись друг к другу вот так, почти без одежды, так что меня просто затрясло, листва на деревьях почернела, деревья зашумели тяжело, стало так душно, словно самый воздух исчез.
Читать дальше