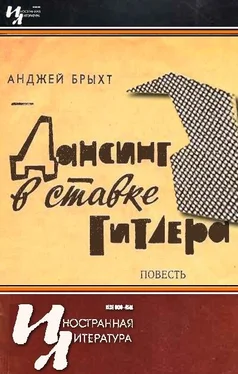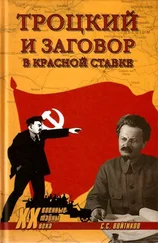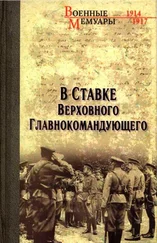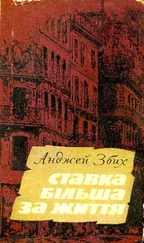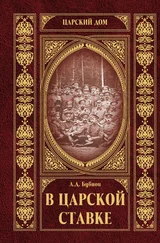Анджей Брыхт
Дансинг в ставке Гитлера
ласков котик бел воркотик
мышка тоже загляденье
догоняшек будет дос ы та
кочевряжек будет до отвала
потягушек будет от зуба до зуба
аж запляшет мышка ножки навыверт
доиграется окрасит кровью очи
выдаст свои лапки в клочьях тела
Тимотеуш Карпович
Два года пришлось мне ждать, пока минует стыд, два года — это очень много времени; столько пришлось ждать, пока он пройдет, столько я носил его в себе, будто запаршивевшую кошку за рубахой, пока он прошел, пропал, навсегда исчез, и теперь я могу выложить все, как оно было, сейчас уже могу это рассказать, хочу и даже обязан похоронить шелудивую кошку, как в детстве уже похоронил одну, которую убил еловым горбылем, сырым от смолы, пришиб из-за того, что она меня сильно поцарапала.
А похоронил я ее что надо, с почестями, под высоким забором из серых от дождя досок, в ямке не мелкой и не глубокой, выстланной длинной мясистой травой, поставил над нею крестик из выструганных палочек и три раза подряд, без перерыва, сыграл на губной гармошке, покрепче нажимая языком на басы, «Вот приехали уланы», потому что я тогда только это и умел играть на маленькой, первой в жизни гармошке-пикколо.
Вот и нынче я хочу устроить такие же похороны; на гармошке я уже наловчился играть, в армии меня за это ребята любили, из-за гармошки и началась вся эта история с Анкой — из-за того, что я играл, сидя над озером, золотым и грустным августовским вечером, так как осенью мне надо было идти в армию, а я еще не знал любви и времени мало оставалось, и от этой грусти все надрывнее звучала моя гармошка с регистром, хороший это был инструмент, известной марки «Хонер», все равно что «мерседес» среди автомобилей, и репертуар у меня уже был большой, едва что-нибудь на слух поймаю, тут же и играю в разных тональностях, с трелями, с вариациями, с подголосками — я еще не встречал, кто бы лучше меня это делал.
— Вам надо выступать по радио, — сказала Анка, — а то и по телевидению, только у них обычно с акустикой плохо и не очень-то звучит…
Не сыграл я по радио и не сыграю, потому что там все-таки получше играют, даже серьезные произведения и по нотам, а я нот вовсе не знаю, и гармошки у них там большущие, что твои трубы, а когда для себя играешь — и так сойдет, но она раздразнила мое воображение, и я увидел себя на стеклянном экране и еще больше скис, что осенью в армию идти.
И когда она так красиво сказала, подойдя сзади к тому месту, где я сидел на свае разбитого мола, над тихой темнеющей заводью Белого озера с водой, мерцающей последним светом, а воздух уже сгущался от опускающейся ночи, когда она стала сзади и оказала эти слова, голос ее как будто был не девичьим голосом — хихикающим, с придурью, идиотским, а голосом моей матери, которой я совсем не знал, потому что она погибла в последний день войны, когда мне был всего год.
— Откуда вы? — спросила она, потому что нас там со всей Польши собралась орава, и важно было знать, лапоть ты или из большого города, а уж варшавяне у девочек железно шли первым планом.
— Из Варшавы, — сказал я, даже не обернувшись, потому что до той поры ни разу не взглянул на нее.
— О! — грустно вздохнула она. — Жалко. Я-то из Лодзи.
— И я из Лодзи! — откликнулся я, и только тут обернулся, и посмотрел на нее впервые, и еще сказал: — Родился-то я в Варшаве, а жил в Лодзи, там ведь много варшавян после восстания живет…
При этом я смотрел на нее снизу, все еще сидя на свае, а в глазах ее играли отблески мелкой волны, и неуловимый последний отсвет дня весь осел на ее волосах легким, как пыль, серебром.
Я медленно поднялся и встал перед нею; мы долго смотрели друг на друга, не знаю, сколько времени, но, наверное, долго, если я разглядел ее всю и себя успел разглядеть так, как еще никогда раньше, хотя на себя и вовсе не смотрел. Просто на меня страх нашел, и от этого все мои недостатки мне открылись, все мое уродство, вся потешность моего положения: голый тип в плавках, в руке гармошка, стоит босиком, еле ноги на маленьком срезе бревна умещаются, высокий и тощий, будто аист, — страх, а понравлюсь ли я таким, потому что мне больше всего в жизни захотелось быть с нею.
— Я чувствовала такой же страх, а может, и побольше, — сказала она позднее, — потому что парню всегда легче, всегда как-нибудь выпутается, отделается, а девушка это тяжелее переживает.
Она уже тогда засекла меня, хоть я и не знал об этом.
Читать дальше