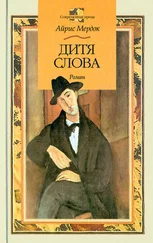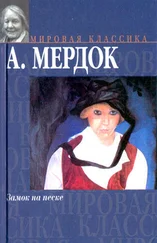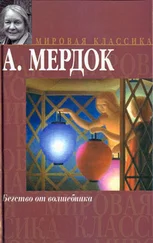Если (что далеко не факт) я хоть отчасти занимаю твое воображение, ты, полагаю, знаешь, что с каждой почтой я жду от тебя письма. Глупость страшная, — но жду, ничего не могу с собой поделать, это просто сильнее меня. Едва лишь заслышу почтальона, как стрелой лечу вниз. И когда, по обыкновению, ничего мне не приходит, это похоже на своего рода ампутацию. Задумайся об этом, Джон, хотя бы на две секунды! Ты оставляешь меня в неведении почти на целую неделю. Потом шлешь открытку с предложением встретиться через десять дней. Так не годится, милый мой! Неужели ты в самом деле так занят, что не можешь полчасика повидаться со мной на следующей неделе? Я, как тебе известно, теперь веду себя очень хорошо — приходится, ты вышколил меня! Так, может быть, ты все же выкроил бы как-нибудь вечером время встретиться и выпить рюмочку? Мне подошло бы, впрочем, любое время дня и любое место. Тебе достаточно позвонить по телефону. Я теперь почти все время дома.
Повидаться с тобой именно сейчас было бы для меня сугубым облегчением, потому что… Интересно, знаешь ли ты почему? Я все гадаю, не сердишься ли ты на меня — особенно после того, как получила твою открытку. Если ты считаешь, что я поступила дурно, ты должен простить меня. А иначе я умру. Прошу тебя, Джон, — давай увидимся на следующей неделе!
Джессика».
«Джон, как до тебя, быть может, уже дошло, я переспала на прошлой неделе с одним человеком. Ты, надо полагать, все об этом знаешь и либо возмущен, либо глубоко презираешь меня. По твоей открытке этого не понять. Она звучит как-то странно. Что ты думаешь обо мне? Я не говорю: «прости меня», потому что не чувствую раскаяния. Ты слишком ясно дал мне понять, что я тебе не нужна — или, вернее, нужна лишь на твоих условиях. Мне полагается любить тебя, но не причинять при этом беспокойства. Да вот, оказывается, и от меня случается беспокойство! И со мной тоже кое-что происходит! Впрочем, по-видимому, мне следует быть благодарной, что ты, по крайней мере, всегда был предельно честен со мой — и я теперь предельно честна с тобою. И, к сожалению для нас обоих, истина состоит в том, что я люблю тебя, тебя одного, — люблю всем своим существом, неизменно, без памяти. Придется тебе мириться с этим. Прошу тебя, сделай так, чтобы мы увиделись завтра. Я позвоню тебе на работу.
Дж.»
Джессика Берд продолжала без устали мерить шагами свою комнату. Три письма, на которые у нее ушла почти вся ночь, лежали на столе. Которое из них послать? В котором сказана правда? В каждом из трех она выразила свои чувства. Но которое окажется более действенным? В глубине души она знала, что ни одно из них действия не возымеет. Любое лишь вызовет у Джона раздражение и ожесточит его против нее. Не встретится он с нею завтра. Возможно, найдет для нее полчаса на следующей неделе, но тогда отложит ту встречу, о которой сказано в его открытке. Едва ли он сердится на нее — она ему просто надоела, и, что бы она ни сделала, чем бы ни попыталась привлечь к себе его внимание, все станет только причиной досады. Это, пожалуй, самое горестное, что дано испытать, когда любви приходит конец, — знать, что для того, кто любил тебя когда-то, ты ныне скучна, назойлива и ничего не значишь. Уж лучше бы, кажется, откровенно ненавидел… Она, конечно, очень несправедлива по отношению к Джону. Джон — совестливый человек, он, несомненно, печется о ее благополучии, и если он назвал такой далекий день для их встречи в открытке, то сделал это из принципа и из чувства долга. Пытался исцелить ее. Но только это так не делается. И исцеления для нее нет.
Изведав явную жгучую ревность, Джессика почувствовала своеобразное облегчение. Красивая женщина, входящая к Джону в парадную дверь, была неоспоримым объектом восприятия, чем-то новым, что послужило пищей совершенно новым мыслям и с новой силой разожгло любовь; и как даже среди мучительных любовных страданий живет известная радость, так этот период ревнивой любви принес с собою нечто бодрящее и даже обнадеживающее. Этот период, однако, хоть он и не совсем миновал, претерпел изменения. На Джессику среди всего прочего, что ее занимало, произвел впечатление тот непреложный факт, что ей не удалось обнаружить в спальне Джона ни одного красноречивого свидетельства: ни шпильки, ни следов косметики или духов, ни противозачаточных средств — ничего. Поскольку Джону едва ли могло прийти в голову, что ей достанет дерзости и изобретательности проникнуть к нему в дом, он вряд ли потрудился бы содержать свою комнату в столь безупречном виде, если бы в ней действительно что-то происходило. Джессику особенно поразило отсутствие малейшего намека на духи. Женщина, которая выглядит как та, которую она видела, непременно должна была душиться. Духами не пахло, и это было замечательно. Но женщина, живая и реальная, — была, и Джессика продолжала бы проводить время, строя о ней догадки, когда бы не погрузилась в пучину ужасающих тревог и волнений из-за того, сколь невероятным образом завершился ее поход в дом к Дьюкейну.
Читать дальше

![Айрис Мердок - О приятных и праведных [английский и русский параллельные тексты]](/books/35170/ajris-merdok-o-priyatnyh-i-pravednyh-anglijskij-i-thumb.webp)