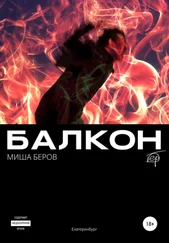Гранж скучал: он снова стал ездить поездом на природу. После резкого потепления на Вьене началось половодье: слюнообразная, едкая вода заливала низкие, уже зеленеющие луга; однако в Шинонских долинах на холмы уже повсюду осела легкая синева Турени; по ободранному мелколесью песчаных косогоров там и сям по сухим зимним веточкам пробегали искры — вспышки желтоватой зелени. Он покидал гостиницу рано утром, оставляя справа от себя Вьену, видневшуюся в просветах между голыми еще тополями за длинными шлейфами тумана; внезапно на излучине долины за мостом появлялся опрятный, будто сошедший со страниц молитвенника городок; встав вместе с солнцем, он цеплялся за склон невысокого холма; улицы его были усыпаны белой пылью, жавшиеся друг к другу крыши из синих чешуек выступали из утренних туманов, сверкая перламутровым блеском, как косяк пескарей, а высоко над его домами тянулась огромная и широкая куртина замка, как царский венец, который обеими руками растягивают во всю длину. Он проходил по мосту с первыми повозками крестьян, едущих на рынок, и с утра пораньше взбадривался, бывало что и натощак, в крошечном тенистом кафе, уставленном ящиками с бересклетом, слабым розовым вином с берегов Вьены, слушая, как по булыжной мостовой узких, устремленных вверх улиц катятся окованные железом тележки и двуколки.
Город не тяготил его: он казался ему выдернутым из времени, освеженной лубочной картинкой. Странный, доселе неведомый свет мерцает какое-то мгновение на одном из уголков пятнадцатого века. Решетка Шинонского замка вновь поднимается: под звуки труб торжественным кортежем, подобно ошеломляющему ряду одномастных карт для игры в тарок, выходит из-под сводов Принц Аквитанский в сопровождении Девы и Синей Бороды. Мир разошелся на некоторых основных своих стыках; внезапно вздрагивает сердце, взрывается возможность: большие дороги на мгновение открываются «нежелательным пришельцам».
Что еще ему нравилось в этих краях, так это камень — меловой песчаник, белый и пористый, то высохший и хрустящий на солнце, то размягченный, отслаивающийся, шелушащийся в сырости зеркальных, продырявленных камышом вод, марморированный важнейшими дымчато-серыми тонами, шероховатыми пропитками бювара, изъеденный затвердевшей в неровностях, тончайшей плесенью рокфора. Это был нежный, как бы женский материал — мягкий, с глубокой и чувствительной дермой, весь покрытый пушком мельчайшего тиснения воздуха. Когда Гранж возвращался из Шинона, он останавливался у Вьены с застроенной стороны и, находясь в прекрасном расположении духа после хмельных завтраков с вином и жареной свининой, разглядывал потаенные загородные дома, уютно расположившиеся за закрытыми решетками и старенькими клумбами, утыканными отцветшими кудельками штокроз, — дома, так удивительно гармонировавшие с этим часом, спокойно засиявшие в нежном пенистом свете, подобно женщине в саду.
Впрочем, здешние обитатели о войне не говорили, и даже не похоже было, чтобы ею особенно интересовались. Душноватая атмосфера Парижа с ее слишком явственной и тяжелой тревогой здесь выветривалась, отходя в область тех неотвратимых явлений природы, искусство предсказывать которые и составляло крестьянскую мудрость. Эта война без души и без песен, ни разу еще не вызвавшая единого порыва толпы, которая в каждом тайно звучала как «я» и никогда как «мы» и держала в заточении великое множество личных мирков, деревню сбивала с толку куда меньше, чем город, ибо не шла вразрез с привычным ей мышлением: недалеким расчетом и безропотным, чуть мистическим приобщением к неопределенному по своей природе будущему. Здесь как будто бы ничего не изменилось, разве что стало заметно несколько необычное разрежение рабочих рук; это наводило на мысль не столько о кануне вооруженного смертельного столкновения, сколько о стране, которая в расчете на долгосрочное укрепление свозит людей в чрезмерно открытые пограничные районы, насаждая на этих форпостах массивную миграцию молодежи. «Забавно, — думал Гранж, — что в нынешние времена молниеносной войны на границах устраивается не армия, а колония. Еще год-два — и эта армия положит начало новому роду; это неизбежно уже хотя бы потому, что в Мориарме, да и в другие места, треть офицеров привезли жен; я сам…» Сидя за плетеным столиком в своей веселой светлой комнате, выходившей окнами на вьенские тополя, он, не обремененный никакими заботами, вновь предавался одной из своих любимых грез на Крыше. Ничем не походила эта война на другие войны: это было вялое вырождение, бесконечно угасающие сумерки мирного времени, такие долгие, что после этого странного межсезонья, этого погружения в сияние белых ночей невольно можно было грезить о новом дне, который, не нарушая связи, спаивается со старым. Быть может, страна собиралась отделить от себя, на долгие годы переселить на свои границы привилегированное племя — ленивую и буйную военную касту, во всем, что касается хлеба насущного, полагающуюся на гражданских и в конечном счете требующую его, подобно тому как вооруженные кочевники пустынь взимают дань на возделанных окраинах. Своеобразные прирубежные бродяги, странники из Апокалипсиса, они, свободные от материальных забот, знакомые лишь с символами и предзнаменованиями, живут на краю укрощенной бездны, не занятые ничем, кроме великого ожидания чего-то смутного, непредвиденного и катастрофического, как в тех старинных сторожевых башнях, что виднеются на берегу моря. «В конце концов, — говорил он себе, все больше и больше погружаясь в грезы, — и так тоже можно было бы жить».
Читать дальше
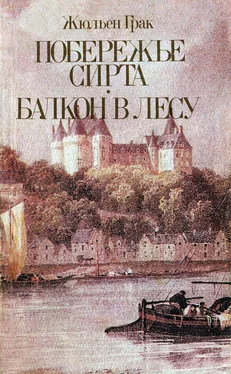
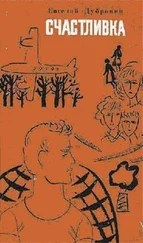


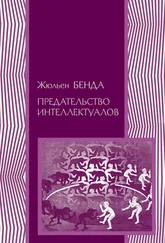





![Д Кузиманза - Балкон во вчера и завтра [СИ]](/books/397799/d-kuzimanza-balkon-vo-vchera-i-zavtra-si-thumb.webp)