Вернувшись к себе в комнату, он часто находил на столе корреспонденцию, которую Гуркюф или иногда грузовичок привозили из батальона; и эта перспектива также омрачала его возвращение; он не любил новостей, он был как откомандированный военнослужащий, оставивший где-то позади мать или пожилую сестру и ежедневные прогулки которого ловко выслеживает почтальон. Если он возвращался поздно, то, даже не успев еще зайти к себе, по тишине в кают-компании, которая не была тишиной сна, догадывался, что доставлены бумаги из Мориарме; не проходило и минуты, как Оливон уже стучал в его дверь, якобы для отчета (изображал диковинный иезуитский щелчок каблуками, который веселил Гранжа), а в действительности чтобы принести в кают-компанию утешительную новость, что «у лейтенанта отменное настроение».
Тем не менее причин для беспокойства как будто бы не было. По-видимому, ничто в официальных бумагах не предсказывало каких-либо перемен в секторе Крыши. Время от времени можно было даже обнаружить откровенно успокаивающие признаки, что прибавляло немного оптимизма, как это сообщение инженерных войск — уже предвещавшее длительное весеннее просветление, — согласно которому после оттепели предполагалась выборочная проверка противотанковых мин и их складирование у обочин дорог. Однако в этой унылой бессвязности речи — с каждой неделей она становилась все обильнее — сквозило нечто такое, что слегка нарушало душевный покой: порой казалось, что речь идет о мозге, который хоть и был выключен сном, но находился весь во власти гнетущих мыслей, от чего по телу время от времени пробегали мурашки. Теперь, когда напирала зима, он был, казалось, всецело поглощен передвижением бронетанковых частей, ибо все знали (да и сами танкисты не делали из этого тайны), что в их задачу в случае немецкого нападения входило, захватив часть Бельгии, развернуться по всему фронту оборонительных рубежей. Но когда пытались, насколько это было возможно, расшифровать смысл весьма отрывочных распоряжений, доходивших до Фализов, вырисовывалась интриговавшая Гранжа перспектива: о выдвижении бронетанковых частей вперед, за линию оборонительных рубежей, заботились явно меньше, чем о том, каким образом они должны будут возвращаться назад. Град подробных инструкций с каждой неделей все настойчивее призывал забравшихся в глубокие снега командовавших войсковыми соединениями Мёза к бдительности, уточняя маршруты отступления, ритм прохождения колонн, имена командиров, которым разрешается взрывать объекты. Особо с маниакальной точностью расписывались детали передачи домов-фортов под командование отступающих и вновь пересекающих границу бронетанковых войск. На чертежах, которые получал Гранж, красным карандашом обозначались секторы обстрелов выдвинутой вперед артиллерией, прикрывавшей отход танков за Мёз. «Мёз? — задумывался Гранж, и ему виделся запрятанный в глубине леса дом-форт, будто скрытым длинным лучом выхваченный из темноты и озаренный зловещим мерцанием. — Мёз? Это их немного касалось». Основательно сбитый с толку, он облокачивался на стол, барабанил кончиками пальцев по черному окну. Вслед за этим неприятным ударом поневоле начинала приходить в действие целая система резервных мыслей. В то, что однажды война может обрушиться на дом-форт, ему верилось с трудом: движение в этой тяжелой машине, надежно скрепленной с землей всеми своими скобами, какой была армия, принимало в воображении уродливый вид заранее спланированного переезда на новую квартиру. «Впрочем, кто посмеет заикнуться об этом? — говорил он сам себе, пожимая плечами. — Никто всерьез об этом не думает. Даже в разговорах, в Мориарме…» И тут его рассуждения резко обрывались — он вспоминал о Варене. («Ох уж этот Варен!..» — думал он.) Однако пожатие плеч не все сводило на нет — что-то все-таки оставалось: какая-то тревога, которую не удавалось ни локализовать, ни подавить, — та же, говорил он себе, что отодвигала сон его подчиненных, по вечерам, когда на его столе лежали «бумаги». Прочитав «Пти Ардене» и парижскую прессу, которая доходила до дома-форта, Гранж нередко задавался вопросом, откуда у него теперь это ощущение, что «газеты столь скверны». Ничего не происходило. Война в Финляндии близилась к концу, это было ясно. На Востоке, о котором одно время много говорили, казалось, все было спокойно: нефтяные скважины Кавказа, по-видимому, все никак не решались заполыхать. То же самое и со встречными огнями: рассеянно поалев некоторое время на горизонте, они тлели и гасли один за другим. И теперь на северо-восточном фронте начинала устанавливаться чуть гулкая тишина — начиненная покашливаниями и скрипением стульев, такая, что иногда говорят: ангел пролетел, а гости незаметно отмечают про себя, что время делается тягучим и уже немного неприличной становится пауза между закусками и подачей более сытной пищи. Ибо эта тишина, которая теперь раздражала слух, была голодом, а зевки свидетельствовали не столько о скуке, сколько об опасном открывании челюстей, подразумевающем нечто совсем другое. Зима старела: чувствовалось, что ее спокойствие дает трещины, как тот плавучий остров Жюля Верна, из-за оттепели убывающий день за днем.
Читать дальше
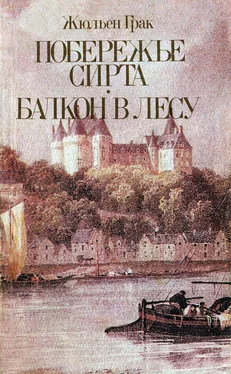




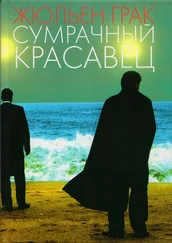




![Д Кузиманза - Балкон во вчера и завтра [СИ]](/books/397799/d-kuzimanza-balkon-vo-vchera-i-zavtra-si-thumb.webp)

