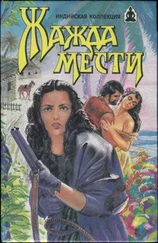— Мне тут сказали, — закуривая папиросу, сказал он, обращаясь к старику, — что вы подговорили иеромонаха Никона сбежать из Москвы и даже дали ему денег?
— Я его не подговаривал, — устало ответил отец Борис, — а денег дал, он ведь голодает.
— У меня есть информация, — отчеканил Павел Антонович, — что вы называли большевиков «сранью», так?
— Не помню.
— Как не помните? У меня имеются свидетельские показания ваших пономарей.
— Да, они просто мальчишки, — махнув рукой, произнес Борис, — наговорят Вам с короб всего, а вы и верите.
— Не-е-е-ет, — стервозно протянул Павел Антонович, — Вы так просто от меня не отвяжетесь. Эти мальчишки, между прочим, докладывали мне о каждом вашем шаге, каждом слове, о том, как вы издевались над вашим священноначалием.
— Это над епископом Никандром, что ли? — спросил Борис. — Так он и есть негодяй, вчера большевиков клял, а сегодня к «безусловной верности советской власти» призывает. А то, что пономарчики мои на меня стучали — это новость…
— Так куда поехал Никон? — прищурившись, спросил Павел Антонович.
— А Бог его знает, — тяжело вздыхая, ответил Борис, — подальше из этого серого города, от жалкого существования, от красных тряпок, от ваших мерзких лозунгов, от предательства, от лояльности…
— Да, да, давайте, копайте себе могилу, — молвил Павел Антонович, — таких-то, как вы, я особенно терпеть не могу. Сидит, корчит передо мной святошу… Я тебе не Диоклитиан, а ты — не святая Варвара, понял?
— Какой уж вы, Павел Антонович, Диоклитиан? — издевательски сказал Борис. — Он был император, а вы так, служка, ищейка, сучка подколодная, возомнившая себя трибуном пролетариата, ходатаем за народ русский. Ой, берегитесь, такие, как вы, первые на эшафот отправляются. Обиженный вы человек, жалкий, самого себя боитесь пуще огня… Не чиновник советского формата вы, нет… хлыст обычный, мистики в вас многовато… интеллигентской такой. Знаете, с гнильцой которая. То есть сегодня я — Бог, завтра — червь, а послезавтра то ли божественный червь, то ли червивый Бог…
— Сволочь ты, — спокойно сказал Павел Антонович, выслушав отца Бориса, — сам на себя посмотри. Ты и в Бога, поди, никогда не верил. Видал я таких, как ты, в семинарии. Детки поповские. Вы ведь жрали там хлеб с салом, а крестьянским детям фигу под нос совали, дубасили их сапожищами. Непривилегированные они для вас были, грязь какая-то, нелюдь. Вы их голодом морили, а они вам штиблеты чистили и за «Мадерой» бегали в винную лавку. Допустим, я, как ты сказал, червивый интеллигент. А ты кто? Левит? Жреческая каста? Посмотри, что вы с церковью сделали, сколько бюрократов и взяточников наплодили, сколько народных копеечек награбили. Несите, братья и сестры, несите! Жертвуйте на ладан, на масло на общую свечку… Народ, как овца послушная, последнее отдаст, а вы митры себе покупаете, рясы из шелка шьете. Или не так? Что ж вы революцию, как из вымени, выдаивали? Плакались, кричали: «Долой деспотизм! Долой монахов от кормила церковного! Да здравствует свободная конфедерация! Власть белому духовенству!» Революция-то, мать вашу, не на сенатской площади началась, а с письма 32-ух питерских попов, которые свободы захотели, харчи архиерейские жрать, с бабой любиться и положение свое сословное не херить!
— Точно так! — согласился отец Борис. — Что делать, родился я в священнической семье. Отец — соборный протопресвитер, профессор… умнейший человек был, сколько трудов по гомилетике написал. Я с младенчества только и помню, как хор поет да дьякон басит. Ничего больше у меня не было, вот и привычка к храму появилась, заходишь туда не как в дом Божий, а как в баню — по-свойски. Так и стал рабом культа. Бог для меня через золото, кадила, свечи и все остальное проявлен был. Много лет прошло, пока осознал я, что в мир Он только через нашу совесть входит и через нее же выходит… И пусть я обрядовер, мракобес, жрец поганый, а сволочью продажной никогда не был и не стану. Не потому что в мученики и праведники стремлюсь, а просто по совести так выходит. Порода мне моя дрянью быть не дает.
— Ничего, — усмехаясь, сказал Павел Антонович, — станешь и дрянью, и сволочью, и мразью — всем, чем я захочу.
Щелчком пальцев он подозвал к себе дюжего красноармейца, все это время стоящего у двери.
— А ну-ка, Васек, научи батюшку советскую власть любить.
— Как это? — озадачился красноармеец.
— Как?! Как?! — заорал Павел Антонович. — Прикладом в рожу!
Красноармеец послушно снял с плеча ружье, развернулся к отцу Борису и со всей силы ударил его в лицо. Старик упал на пол и залился кровью.
Читать дальше