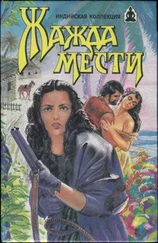Алексей Скрипников-Дардаки - Комната мести
Здесь есть возможность читать онлайн «Алексей Скрипников-Дардаки - Комната мести» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: Современная проза, на русском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Комната мести
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:5 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 100
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Комната мести: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Комната мести»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Комната мести — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Комната мести», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Шли 20-е годы. Сгорбленные старухи московских улиц, объятые немой злобой январской стужи, были мертвенны и пустынны. Раззявленные рты окон забили кляпами из одеял и старого тряпья так, что они не пропускали ни единого звука или проблеска свечи. Казалось, что некое подобие человеческой жизни, которое еще теплилось за этими немыми окнами, теперь потемнело, прогоркло, разжижилось и стекло липким вязким мазутом по стенам и лестницам куда-то вниз в подвалы. Снежный саван, расшитый хаотичными следами голодных собачьих стай, скрипел и рвался под тяжелыми ботинками отца Никона. Внезапно огромная черная тень, выплюнутая подворотней в Старо-Никитском переулке, ринулась в ничего не подозревающего монаха.
«Не трогай! Сволочь! Не трогая меня!» — ревела она, впившись в пальто оторопевшего путника.
«Что Вы? Я не причиню Вам зла», — прошептал Никон осипшим от испуга голосом. Пытаясь высвободиться из стальных крючьев рук сумасшедшего незнакомца, он увидел его искаженное гримасой полулицо: обтянутые чахоточным пергаментом кожи скулы, кривые, вывернутые наизнанку губы, сломанный нос, стеклянные глаза, закатившие свои вдовьи кружки-сердцевины под верхние веки.
Через мгновение незнакомец швырнул Никона в сугроб, а сам, пыхтя, ругаясь и тяжело переваливаясь с ноги на ногу, поковылял прочь. Еще некоторое время отец Никон лежал на снегу, крепко сжимая обеими руками докторский саквояж. В нем лежали верблюжий подрясник, служебник и серебряный крест, который сегодня на него должны были надеть во время рукоположения в иеромонахи.
Идти в подряснике по революционной Москве он не решился — дразнить чоновцев слишком опасно. Чоновцы, особенно те, что были из заводских, в основном молодежь, могли поглумиться над попом. Тем более, что Ленин велел отрицать всякую такую нравственность, взятую из внечеловеческого и внеклассового понятия. Никон встал на ноги, отряхнулся, нахлобучил на глаза бесформенный меховой колпак и направился в сторону храма, расположенного в Андронниевском переулке. Из дома он решил сегодня выйти пораньше, в четыре, несмотря на то, что литургия, за которой должно совершиться его рукоположение, начиналась в восемь утра. Впрочем, ему и так всю ночь не спалось. Он ворочался на своей железной скрипучей кровати, садился, рассматривая покрытую струпьями осыпающейся штукатурки голую стену, зажигал стеариновый огарок свечи, потом задувал огонь, чтобы увидеть белесую струйку дыма, вившуюся византийской виноградной лозой, какую изображают на греческих иконах. Никона мучила жажда после гнилой солонины, которой накормила его товарка, жившая этажом выше. Был голод, и потому Никон был счастлив любой пище.
Иногда он вспоминал трапезы в монастыре, где принимал монашеский постриг. Это был богатый русский монастырь, куда мать отдала его восьми лет отроду, записав на фамилию Сухаренко. От одной из своих теток Никон знал, что мать нагуляла его с каким-то бурсаком. Тетка частенько привозила мальчику гостинцы и каждый раз поминала его непутевую родительницу бранными словами: «Ох, и сука же она подколодная! Кровиночку родную в монастырь упекла! Взбзнется ей за это, ей Богу, взбзнется! Хотя, кому ты в миру незаконнорожденный нужен?! Выблядочек бедненький!»
Длинный деревянный стол трапезной монастыря всегда изобиловал соленьями, были толстые блестящие жирком астраханские сельди, прозванные архиерейской заедкой, изумительная шамайка с Дона, поставляемая казаками даже ко двору Государя, жемчужные куски севрюги, картошка, жаренная с белыми грибами, и еще эйнемовский шоколад, жертвуемый к каждому двунадесятому празднику Великой Княжной… Но монастырь закрыли по распоряжению совнаркома, и все разбрелись кто куда. По старому Уставу о паспортах настоятель обители все же успел выписать братии открепительные документы, по объявлении которых они должны явиться в Санкт-Петербурге в консисторию. Но ни духовной консистории, ни обер-прокурора уже тогда не было, Патриарх Тихон находился под домашним арестом в Донском и вскоре умер. Бо́льшая часть архиереев или поддержала Врангеля, или ушла в только что возникшее обновленчество, остальные же высиживали, как могли, часто идя на компромисс с совестью.
Никон не чувствовал голода. Воспоминания о сытых покойных днях, проведенных в любимой обители, не соблазняли его. Ему только хотелось пить. Он смотрел в сторону ржавого ведра, полного талой воды, на кружку, стоящую подле, облизывал пересохшие губы, сглатывал слюну, представляя, как пахнет вода, впитавшая мерзлую улицу. Вначале она была безвкусна, но по мере тепления приобретала горечь коломази, сажи, пепла, солярки, гнили, человеческих испражнений, выплескиваемых прямо на улицу. Вода выстаивалась в ржавом ведре, приобретая чуть сладковатый привкус. В основном она быстро стухала. Никон выливал ее в рукомойник и шел во двор за новой порцией снега. Конечно, если бы сейчас было часов 10–11, другое дело: пить можно, но уже далеко за полночь, а значит он как человек, участвующий в литургии и причащающийся Тела и Крови Христовых, должен был воздерживаться от всего, даже от капли воды.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Комната мести»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Комната мести» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Комната мести» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.