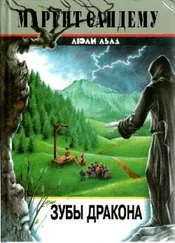* * *
— …и я хотел бы поблагодарить всех вас, особенно родных и друзей, за то, что вы пожертвовали новогодним вечером… спасибо, что вы пришли посмотреть на старт этого, как мне кажется, необычайно интересного проекта, — интересного не только мне и другим исследователям, но и более широкой…
Едва Маркус начинает говорить, как Миллат замечает, что братья из КЕВИНа переглядываются. Они торчат здесь уже десять минут. Или пятнадцать. Следуя инструкциям, ждут сигнала Абдул-Колина. А Миллату на инструкции плевать, по крайней мере на те, что передаются из уст в уста или на клочках бумаги. Он подчинен внутреннему императиву, и холодная сталь в его внутреннем кармане — ответ на вызов, брошенный ему много лет назад. В нем живет Панде. В жилах бурлит мятежная кровь.
Раздобыл он эту штуку в два счета: пара звонков кое-каким ребятам из старой команды, безмолвный договор, деньги из кассы КЕВИНа, поездка в Брикстон и — гоп-ля! пушка у него в руках, тяжелей, чем он думал, но в общем ничего особенного. С ним как будто что-то такое уже было. Похожее чувство он испытал в девять лет, когда они с Самадом шли по улице в ирландском квартале Килбурна и вдруг взорвалась машина. Самад был потрясен, потрясен до глубины души, а Миллат и бровью не повел. Ему это было знакомо. И нисколечко его не удивило. Ибо на свете больше нет ни чужого, ни священного. Все хорошо знакомо — спасибо телевидению. Холодный ствол в руке, первое прикосновение пальцев — какая ерунда. Но когда все вот так легко дается, без труда встает на свое место, до чего же хочется костерить эту суку — судьбу. Для Миллата она то же, что телевизор: непрерывное повествование, придуманное, спродюсированное и экранизированное кем-то другим.
Сейчас, разумеется, когда он окаменел от страха, а свитер с правой стороны словно оттягивает игрушечная наковальня, различие между телевидением и реальностью для Миллата несомненно, — оно как удар ниже пояса. Но если все же заняться поиском киношных соответствий (в отличие от Самада и Мангала Панде, Миллат не был на войне, не ходил на дело, так что сравнивать ему было не с чем), то следует вспомнить Аль Пачино в первом «Крестном отце», затаившегося в ресторанном туалете (как некогда Панде в казармах) и задумавшегося на миг, каково это — выскочить из уборной и изрешетить к чертям собачьим двух парней за столом в шашечку. И Миллат вспоминает. Вспоминает, как он отматывал пленку назад, останавливал мгновение, без конца смаковал эту сцену на протяжении многих лет. Вспоминает, что можно до бесконечности держать на паузе изображение задумчивого Аль Пачино, до одури прокручивать тот кадр, где на его лице написано сомнение, но все равно он пойдет и приведет свой план в исполнение.
* * *
— … и когда мы осознаем, что значение данной технологии для человечества… это, с моей точки зрения, ставит ее в ряд с такими открытиями XX века в области физики, как теория относительности, квантовая механика… когда мы поймем, какие возможности выбора она нам предоставляет… вопрос стоит так: не голубые или карие будут глаза, а сможет человек видеть или нет…
Однако есть нечто, что человеческий глаз узреть не в силах, даже с помощью лупы, бинокля и микроскопа, теперь Айри это знала. Нет, надо все-таки выяснить. Она сидела и переводила взгляд с одного на другого, в итоге черты стерлись, остались голые коричневые холсты с непонятными неровностями — так теряет смысл без конца повторяемое слово. Маджид — Миллат. Миллат — Маджид. Майджлат. Милджид.
Хоть бы будущий малыш подсказал, подал знак. В голове вертится подхваченный у Гортензии стих — псалом 63: Тебя от ранней зари ищу я; Тебя жаждет душа моя, по Тебе томится плоть моя… Как много нужно: вернуться назад, к самым корням, к основам, решающей встрече сперматозоида с яйцеклеткой, яйцеклетки со сперматозоидом, — в данном случае так глубоко проникнуть невозможно. Что касается ребенка Айри, — прости-прощай точные прогнозы; неуверенность будет всегда. Есть секреты, которые не раскрываются. В мечтах Айри уносится вперед, в то не столь отдаленное время, когда корни утратят всякое значение — потому что так и должно быть, потому что они длинны, и извилисты, и чертовски глубоки. Она отдается этим мечтам.
* * *
— Устоять среди всех тревог…
Уже несколько минут доклад Маркуса и щелканье фотокамер сопровождается новым звуком — слабым, еле слышным пением (раньше всех его различил Миллат). Маркус изо всех сил пытается его не замечать, но децибелы нарастают. Он замедляет речь и озирается, хотя поют явно снаружи.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу