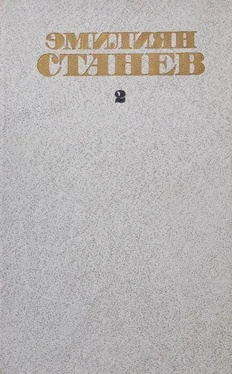Прежде чем заснуть, он с сожалением подумал о своих часах, тикавших сейчас в столе у начальника участка. Обидно, что придется расстаться с ними и с документами. Да, документы — это в самом деле огромная потеря. Их удалось раздобыть только благодаря одному товарищу — писарю общинной управы.
Он уснул, когда старые турецкие часы на башне пробили один раз.
В камере, если это название подходит к узкой и темной клетушке, наскоро приспособленной для содержания арестантов, было всего одно оконце, выходившее на задний — двор. Годами немытое, оно было до того грязным, что казалось, будто в нем вместо стекол — листы целлулоида. Вделанная в стену решетка еле проглядывала сквозь них. Дневной свет с трудом проникал внутрь, и, если бы не электрическая лампочка, даже собственную одежду и то нелегко было бы отыскать.
Проснувшись, он не мог сообразить, сколько сейчас времени, и стал прислушиваться, чтобы по доносящимся звукам хоть приблизительно определить, который час. В коридоре стучали сапоги полицейских, слышны были голоса, топот ног на лестнице, гулкие всхлесты кожаных ремней — во дворе умывались и, дурачась, гонялись друг за дружкой полицейские. Значит, было еще совсем рано.
Он дождался, пока шум поутих и на городских часах пробило семь. И тогда принялся колотить в дверь. Через несколько минут чей-то грубый голос осведомился, что ему надо. Его вывели во двор умываться. Полицейские разглядывали его с хмурым любопытством. Тем не менее с ним обошлись довольно любезно: полицейский, который его сопровождал, белобрысый крестьянский паренек, стал ему поливать. Это его приободрило. Он попросил, чтоб ему купили сигарет, и остался в коридоре ждать. Глядел на полицейских и думал: «Который из них будет сегодня стрелять в меня?» Вчерашнего, высокого, черноволосого, нигде не было видно, а очень хотелось получше его разглядеть. Все, кто сейчас одевался здесь, в караулке, были, судя по всему, из крестьян. Медлительные, неповоротливые, они относились к службе спустя рукава; собственное хозяйство, семья заботили их куда больше, чем безопасность государства.
Он держался с ними хмуро — отворачивался, морщился, продолжая изображать обиженного интеллигента, несправедливо пострадавшего от произвола их начальства. И на расспросы, за что его взяли, раздраженно отвечал: «Спросите вашего начальника. Ему лучше знать».
Время приближалось к семи тридцати, когда в присутственных местах начинаются служебные часы, и его снова заперли в камеру.
— Я хочу позавтракать, — заявил он. — Купите мне чего-нибудь.
Полицейский согласился, взял у него денег и вскоре принес несколько баничек. [4] Баничка, баница — слоеный пирожок или пирог с брынзой (реже с другой начинкой).
С жадностью проглотив их, он присел на нары и закурил. Он не был заядлым курильщиком, курил редко, но все же привык к никотину. В тяжелые минуты табак успокаивал нервы.
Очень хотелось узнать, есть ли тут, помимо него самого и паренька-подмастерья, еще и другие арестованные. Спросить об этом он не решился, однако был почти уверен, что больше арестантов здесь нет. Иначе он бы их увидел, и не сидел бы в камере один. Это было ему на руку — выходило, что больше за водой послать некого. И все-таки вопрос оставался открытым — кто знает, пошлют ли его, и в какое время дня это произойдет.
Бежать надо сегодня. Откладывать нельзя. К вечеру двое товарищей по отряду будут ждать его в семи километрах отсюда, у одной из временных партизанских стоянок. Он должен встретиться с ними, сообщить о том, что произошло, а потом вместе с ними вернуться на мельницу и забрать винтовки. Некоторые партизаны в отряде были безоружны. И каждый день прибывали все новые бойцы.
Хорошо бы повидаться сейчас с агентом. Надо снова выразить возмущение незаконным арестом и заодно кое — что выведать — например, пошлют ли его снова за водой и что думает с ним делать начальник участка. Он вслушивался, надеясь уловить голос агента, но в общем шуме хлопающих дверей, громкого разговора и топота ног по лестнице трудно было различить малознакомый голос. Из комнаты, где сидел паренек-сапожник, не доносилось ни звука. Неужели ночью, пока он спал, того куда-нибудь отправили?
Он подошел к стене, постучал. Паренек ответил. Это его успокоило. Должно быть, лежит и раздумывает над своим положением, дожидаясь, когда о нем вспомнят и выпустят во двор.
«И угораздило же его держать дома нелегальную литературу!» — подумал он с досадой.
Читать дальше