Она знала, что ее жених что-то делает в подполье, каждый день принося то листовки, то оружие. Ее любовник был теперь капитаном ополчения и, следовательно, врагом Жана. Когда она пришла к нему в казарму, он сидел в своем кабинете, полусонный, утонув в кожаном кресле, украденном из еврейского банка. Докуривал сигару. Он размышлял о том, что раньше шинель солдата должна была кончаться в тридцати сантиметрах от земли. В тридцати, не в двадцати девяти или тридцати одном. Но вот когда он с линейкой, которая служила ему меркой, проверял уставную длину шинели каждого солдата, выходящего в город, марсельский капрал имел полное право, выставив всю свою морду и даже глотку на растерзание палящему солнцу, глазом не моргнув, выпалить:
— Да пошли они в жопу с прикладом, твои тридцать сантиметров!
Теперь ополченцы не носят больше шинелей, а он — капитан. Ее приход застал его врасплох.
— У тебя все в порядке, малышка?
Служанка не осмелилась ничего выговорить, даже посмотреть на него не посмела.
— Знаешь…
— Что-нибудь не так?
— …Я только хотела тебе сказать…
И она для самой себя сформулировала мысль, которая бродила в ней уже давно:
«Я знаю, что Жан разносит листовки, оружие, взрывчатку. Меня он ни в чем не подозревает. Я бы могла на него донести. Я знакома с капитаном. Жан мне доверяет, я его им не продам, хотя могла бы». Эта мысль меня даже не задела ни краешком. Мысли вообще меня не задевают. Я ощущал себя сильным своей свободой, пьяным ею, чуть-чуть навеселе. «Я могу, я мог бы… и не сделаю. Я не поддамся». Я ухватился пальцами за отворот куртки. Мне требовалось зацепиться за что-нибудь прочное, существующее на самом деле, но не являющееся мною самим, и вот тогда я ухватил в пригоршню кисть от портьеры и сжал в кулаке.
— Что ты делаешь?
— Чего?
— Что с тобой?
Капитан испугался.
— Ничего.
И я небрежно уточняю: «Держусь за портьеру».
«Он не знает того, что я знаю, я. Не знает, что я могу донести на Жана. Но не буду. Не буду, не буду… Я свободен, свободен, свободен!» Моя рука еще сжимала портьерную кисть, таким образом я повис на чем-то крепком, истинном. На самой истине. «А если я выпущу занавеску?» Отпустив кисть, я почувствовал себя еще более легким. Рука перестала хвататься за качающийся маятник. «Сказать или не сказать? Если сказать, что потом? Потом меня захлестнут эмоции, от которых я теперь освобожден стремлением сохранить равновесие. Моя ситуация некомфортабельна, но она чиста. Она чиста, пока я могу сказать или не сказать, при том что во время этого замешательства я избрал: не говорить, однако же, пока я твержу себе: «не говорить!» стабильность факта все не устанавливается, это «я не скажу!» еще не совсем живо, оно, дрожа, помирает: «скажу!».
— Я хотела тебе сказать…
— Да что тебе надо?
— Младенчик помер.
Он понял не сразу. Прежде всего потому, что служаночка не плакала. Даже не была в черном. Наконец до него дошло:
— Черт подери!
И тотчас добавил:
— Не нужно сейчас об этом, ладно? У тебя деньги есть? Подожди-ка.
Из заднего кармана штанов он вытащил пачку тысячефранковых банкнот, зажатых золотым фермуаром, вытянул оттуда пять бумажек и вложил в сложенные на животе руки служаночки. Она было замотала головой, но он оборвал ее:
— Да нет же, бери… И… и все такое…
Она пожала плечами.
— Я пришла не для этого.
Она протянула ему руку и вышла с сухими глазами и замкнутым лицом.
……….
Стоя на балконе, опершись локтями на поручни и уставясь в ночь, Ритон ждал. Вдалеке по временам раздавались пушечные залпы.
«Это громы войны. Давайте, давайте, знаю я вас!»
Непорядок в кишках, пузырьки газа, которые все никак не могли улечься, еще кое-что добавляли к его злодейскому настрою. Среди инфернального одиночества сама констатация того, как это одиночество (варварское божество войны до конца) его изменило, нависла над городом, приговаривая его к смерти, и от этого он испытал злобную радость, счастье оставаться прекрасным и веселым в пиковой ситуации, в которую он сам паскудно впутался из ненависти к Франции (каковую не зря отождествлял с Обществом), когда записался в ополчение, после чего все презрение его «братков» побуждало его избирать самые красивые жесты, какие только есть. Так и Жан иногда бунтовал против своей совести. Когда он со мной расстался, поклявшись могилой своего старика, он сначала испытал ярость от того, что связал себя клятвой, которую не осмелится нарушить. Его наивная душа опасалась вмешательства, если не небесного, то, по крайней мере, самой жизни, которая взбунтуется, или духов своего родителя и родительницы. При всем том мыслишка, что он все-таки пойдет, нет-нет да и покалывала его. Он исхитрился мне пожаловаться:
Читать дальше






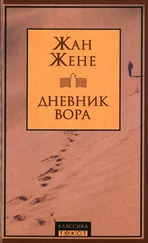


![Жан Жене - Влюбленный пленник [litres]](/books/431681/zhan-zhene-vlyublennyj-plennik-litres-thumb.webp)
