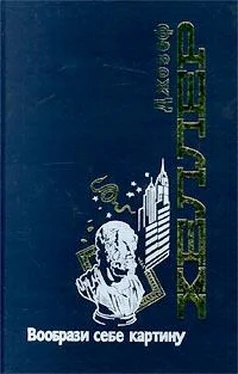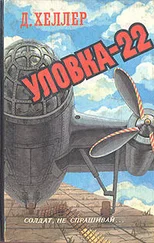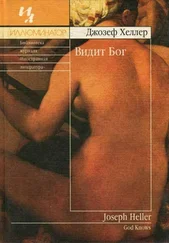— Это будет трагедия, — почти беспечно сказал Рембрандт, — если мне придется остановиться теперь, когда я так хорошо работаю.
Он уже начал приискивать другой дом.
— И все же я предпочел бы продать мою коллекцию и остаться здесь.
— Еще большая трагедия будет, — сказал Ян Сикс, — если вы попробуете что-то продать, а никто не купит.
Трагедия? Аристотель с трудом сдержал презрительную усмешку. Какая же это трагедия? Разве они не знают, что трагедия есть подражание действию важному и законченному, имеющему определенный объем, при помощи речи, в каждой из своих частей различно украшенной; посредством действия, а не рассказа, совершающее, путем страдания и страха, очищение подобных аффектов? Здесь же речь идет не о трагедии, а о пафосе, который образуется не более чем обычными горестями жизни, без благотворных искуплений катарсиса, которые несет с собою, как он уже говорил, трагедия.
То есть это трагедия, но без счастливого конца.
Рембрандт ничего не сказал Яну Сиксу о заработке, который сулили новые картины. Или о том, что, помимо денег, так и не выплаченных за дом, он задолжал еще восемь тысяч гульденов и, строго говоря, еще двадцать Титусу — из средств, которые мальчику одиннадцать лет назад оставила мать. Насколько мог понять озадаченный Аристотель, из бесчисленных картин, расставленных по чердаку и прислоненных одна к другой, только относительно двух — «Аристотеля» и «Яна Сикса» — угнетаемый заботами домовладелец, художник и отец мог с уверенностью сказать, что за них ему заплатят. Ни та, ни другая закончены пока что не были, хоть и Аристотелю, и Яну Сиксу зачастую не удавалось понять, в какой еще доработке они нуждаются. Рембрандт бесконечно менял цвета и манеру работы кистью, возвращаясь к холстам, которые уже много раз отставлял как завершенные.
Его безразличие к времени могло хоть кого довести до отчаяния.
Аристотель, размышляющий над бюстом Гомера, как показали рентгеновские снимки, несколько раз был близок к тому, чтобы поскрести в затылке, однако Рембрандт ему этого не позволил и в конце концов заставил его протянуть руку и положить ладонь, как бы шапочкой, на голову Гомера, застыв в позе, знаменующей неизменную тягу к исследованию.
— Должен вам прямо сказать, моя картина мне нравится, — сказал Ян Сикс, часто теперь приходивший, чтобы попозировать для портрета, посмотреть, как работает живописец и поболтать.
— Мне тоже, — сказал довольный Рембрандт.
Аристотелю она тоже нравилась.
Пока Аристотель стоял, прислонясь к своему мольберту и ожидая отправки в Сицилию, на свежем холсте перед ним возникал фантастический портрет молодого, широко образованного человека из богатой семьи, Яна Сикса. В жизни Сикс был худощавее, проще, безобидней, изящней; искусство наделило его внутренней силой, и с каждым прикосновением кисти или мастихина внешность его становилась все более властной.
Сердце Аристотеля замирало всякий раз, как Рембрандт приближался к одному из них с мастихином, да и не только к ним — к любой из картин. Сикс, получив передышку, оставил свое место и подошел к «Аристотелю», чтобы внимательно его разглядеть. Рембрандт протянул руку и уперся ладонью Сиксу в грудь, пытаясь удержать молодого человека на расстоянии.
— Вас может…
— Стошнить от запаха краски, — закончил Сикс за него. Сикс улыбался, Рембрандт нет. — Вы действительно его кончили?
Рембрандт, пожав плечами, отвернулся, ему не хотелось отвечать. Внезапно взгляд его приковало к себе нечто им не жданное. Он вздернул голову, затаил дыхание и, не произнеся ни слова, метнулся вперед. Затем, чуть кренясь влево, бросив через плечо встревоженный взгляд, он повалил вдоль чердака в ближний к двери угол. Остановившись там, Рембрандт нагнулся, потянулся к полу. И замер, не дотянувшись. Назад он шел медленно, с выражением отрешенного разочарования на лице, отдуваясь и шепотом сквернословя.
Кто-то изобразил на полу очередную монету.
— И написал-то всего-навсего стюйвер. — Аристотель готов был поклясться, что расслышал именно эти слова.
Рембрандт постоял, злобно разглядывая Аристотеля, меряя его угрожающим взглядом. Затем вдруг саданул мастихином.
— Вы знали, делая это, что зеленый цвет проявится и заиграет так живо? — просияв, поинтересовался Ян Сикс.
Сикс надел очки, которые снимал, позируя.
— Знали, — зачарованно продолжал он, — проводя сейчас лезвием по влажной краске, что золото заблестит ярче, а складки на шелке станут такими глубокими?
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу