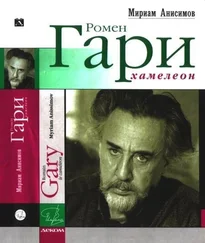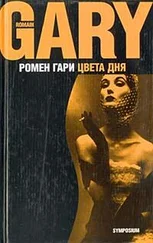Я знаю, что среди вас, мои читатели, найдутся скептические умы, почитающие таких, как мы, скоморохов за людей без чести и совести, заботящихся только об извлечении всяческих выгод. Было бы напрасно оспаривать эту тысячелетнюю репутацию, которую нам создали как гранды, так и их последователи-буржуа в ожидании, что народ, в свою очередь, засвидетельствует свое недоверие по отношению к нам, оставив выбирать между смирением, молчанием и тюрьмой. Мы были ни при чем в гнусном преступлении Блана. Скорее мы бежали бы в Самарканд или Стамбул, чем открыли бы себе дорогу на Москву через труп графа Ясина.
Мы решили воспользоваться представлением, которое намеревались дать в Тихоновке, чтобы перейти Дон и повернуть на Москву по западному берегу. Никто не обнаружил нашего маневра, когда мы, пропустив вперед арьергард казаков, повернули назад и отплыли на пароме в Правово. Какие-то шесть часов спустя мы встретили первый отряд регулярных войск генерала Михельсона. Пропуск графа Ясина произвел ожидаемый эффект: к нам отнеслись с большой приязнью, выслушав с негодованием рассказ о пережитых нами страданиях. По нашем прибытии в Москву был устроен праздник в нашу честь: посол Венеции дал обед, газеты пересказывали приключения знаменитого магнетизера доктора де Дзага и его семьи, говорили, что ему удалось ускользнуть из когтей Пугачева посредством основанного на точных знаниях могущества, секрет которого, вместе с доктором Месмером из Вены, он открыл первым в Европе. Впоследствии я узнал, что этот рассказ извилистыми путями достиг венецианских газет и французский путешественник Пивотен упомянул о нем в своем опусе 1880 года «Венецианские путешественники и авантюристы XVIII в.», удостоенном премии Французской академии.
Мы были вынуждены некоторое время оставаться в Москве, так как были нарасхват — все светские дамы желали услышать из наших уст рассказ об ужасах пугачевщины. Наше пребывание оказалось особенно приятным вследствие новинки, недавно введенной в светский обиход, пока еще робко, ибо она считалась рискованной: ожидали суждения императрицы. Вальс, как считают, родился во Франции несколько веков назад, но там он скоро впал в спячку, а пробудился в Германии. Австрийский двор принял его восторженно, но когда вальс добрался до России, попы осудили его как дьявольское искушение — ведь танцующие предаются веселью и разврату, что плохо сочетается с истинной верой.
В день нашего прибытия в Москву капельмейстер Блехер по указанию властей был подвергнут домашнему аресту — ведь это он завез семена безумия, и надлежало помешать ему распространять заразу, но все было тщетно: город, перенесший несколько лет назад чуму и вслушивавшийся сейчас в эхо кровавой поступи Пугачева, жаждал забвенья — потихоньку вальсировали повсюду.
Терезина и вальс нашли друг друга у графа Пушкина, будущего отца великого поэта, и никогда еще музыка и женщина не сочетались столь счастливо. Легкость нелегко носить — она требует грации, пушинка может обратить ее в свинец. Но Терезина была вальсом. С их первой встречи на балу у графа Пушкина я понял, что, пока я живу и пока Земля будет кружиться под звуки музыки, мелодия вальса всегда приведет ко мне Терезину. Они были созданы друг для друга — я говорю «они» как о паре, и стоит мне услышать первые такты и увидеть Терезину, выступающую с поднятыми руками навстречу вальсу, как я чувствую в себе пробуждение данной мне, ребенку, лавровским лесом волшебной силы, которую я беспрестанно искал в себе — и иногда находил. Я видел вальс как нечто живое, как божество утраченного мною леса. Он же старался казаться нематериальным и укутывал себя музыкой — ему надлежало соблюдать приличия, он не мог позволить себе вдруг материализоваться на паркете в сказочном облике, сверкая волшебными лучами. Не разыгрывается ли за внешней стороной вещей, за скорбной маской реальности тайная феерия, квинтэссенция веселья, непрекращающийся праздник, о котором нам пророчествуют несколько па танца, несколько тактов музыки и смех зачарованной девушки? Я почти не верю в тайну и глубину, когда дело касается счастья. Счастье — на поверхности, оно боится толщины, тайна не манит его, это — касание, шелест, шорох. Счастье почти эфемерно. Искусство глубин, искусство наших ученых докторов, писателей, мыслителей ни разу не сотворило из своих открытий улыбку, редко кто вспомнит о веселье, когда поминают гения. Вальс обязан своим рождением оплошности того или тех, кто создал человека: где-то что-то нарушилось в предварительном расчете, произошла ошибка, непредвиденная осечка между молотом и наковальней — так был создан вальс, глубина дала сбой, и легкость смогла увлечь людей, отсчитывая такт смычком.
Читать дальше