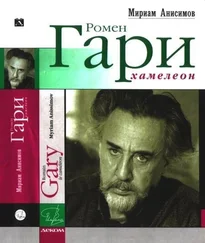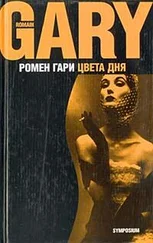Скачка закончилась самым жестоким образом. Пленники по своему воспитанию и образованию не привыкли к тяжелому труду и физическим страданиям, некоторым, как, например, самому генералу Порошкову, было уже за шестьдесят. Они проявили достойную восхищения стойкость, которую, казалось, оценили и сами казаки, несколько раз подносившие им напиться и подбадривавшие их дружескими тычками. Но теперь они стали падать один за другим под тяжестью танцоров. То был самый мучительный момент представления, а для меня, должен признаться, искусство кончается там, где начинаются муки. Когда большинство этих несчастных еще держалось на ногах, собрав последние силы, чтобы отсрочить падение и финал, казаки и их товарищи монголы вскочили на коней, пустили их галопом и стали заскакивать на платформу под радостные вопли собравшихся, почувствовавших приближение апофеоза. Вскоре помост возвышался не более чем пол-аршина над землей на раздавленных телах, в то время как вся кавалерия проносилась взад-вперед по подмосткам; поскольку их было более трех сотен на первый взгляд (ибо трудно было сосчитать точнее в этом смешении красок), можно сказать, что финал — увы! — был достоин спектакля. Так погибла, превратившись в кровавое месиво, вся элита провинции, и в числе прочих образованнейшие люди, знать, офицеры, помещики и чиновники, — впрочем, некоторые из этих последних в свое время предусмотрительно переметнулись в лагерь восставших.
Я испытал такой шок, что впечатление так никогда и не стерлось из моей памяти, и в 1926 году я снял по этому эпизоду фильм студии UFA с Мали Дельшафт и Иваном Петровичем в главных ролях.
Никто из нас не уснул той ночью. Мы были столь же возмущены, сколь и напуганы, ибо наше присутствие здесь могло внушить властям, что мы были сообщниками и соучастниками этих кровавых тварей.
Зверства, свидетелями которых мы были на протяжении нескольких недель, поставили перед нами моральную дилемму, которую отец сознавал совершенно отчетливо: не следует ли нам проникнуться и восхититься красотой идеи, не видя ничего, кроме свободы, уничтожения рабства, не обращая внимания на испачканные кровью руки, в которые упало это сокровище? Или, напротив, следовало полагать, что не существует идеи в отрыве от способа ее воплощения, как нет и человеческого достоинства без действия, достойного подражания, едва только загорится искра того или другого?
Мы рассмотрели все эти вопросы под пологом нашего шатра, и следует признаться, что таким образом сохранили философское спокойствие посреди доносившегося издалека лая и визга собак, дравшихся из-за останков казненных. Это не были напрасные словопрения: решение было принято. Следовало уяснить, даем ли мы завтра наше представление или же отказываемся расточать сокровища итальянской комедии перед человеком, ответственным за весь этот ужас.
Мы нашли ответ в примерах наших знаменитых предшественников: ни Леонардо, ни Микеланджело, ни Данте, ни Петрарка не оставили кисть и лиру, когда яд, кинжал и голод вели вокруг них свой адский хоровод. Сгущающийся мрак говорил лишь об одном: надо поднять еще выше и еще более крепкой рукой факел искусства.
Твердым шагом и со спокойной совестью поднялись мы назавтра на подмостки, ожидая Пугачева. Мы были готовы дать ему то, что он принял бы, без сомнения, за обычную забаву, увидев в костюмах, которые мы напялили, лишь переодетых паяцев, но для нас, посреди пугающего мрака, эта буффонада становилась подлинным провозглашением идей гуманизма.
Пугачев явился к одиннадцати и трезв уже не был.
Движимый глубоким убеждением, что ночь раздумий лишь придала сил, отец раздул в своей груди божественную искру искусства, выполняя трюки, которых даже мы прежде не видели. Он сам надел костюм Арлекина, и, используя итальянские слова, он покрыл «царя» оскорблениями и насмешками, доставившими нам немало веселых минут, но, к счастью, не понятыми их мишенью, после чего, оставив эти изыски, он попытался овладеть вниманием своей невеселой публики. Он жонглировал пятью бутылками, исполнял карточные фокусы с такой ловкостью, что по толпе прошел шепот восхищения. Его голос чревовещателя появлялся в трех-четырех разных местах: так, когда поп Кролик открыл рот, чтобы сплюнуть жвачку, из его глотки прозвучала исповедь во всех смертных грехах, им совершенных. В руках татарина Алатыра, который тоже был здесь, одетый в свои белые горностаи, в шапке, сверкающей золотом и рубинами и похожей на восточный храм, малыш Турлан красивым мужественным голосом прочитал целую суру из Корана. И когда сам Пугачев, сидя в красном бархатном кресле, которое служило ему троном и носилось за ним повсюду, принялся раскатисто хохотать, смех его закончился фразой, которую явственно услышали все кругом:
Читать дальше