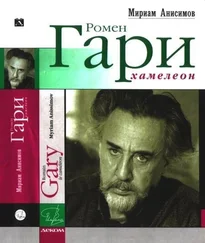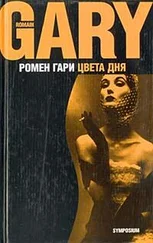Отец появился в момент, когда баталия между обезьянами и порядком вещей, стоивших ему столько денег, достигла своего разрушительного апогея. Он остановился на верху лестницы, опершись на каменные перила. Он был одет в красный польский домашний сюртук с серебряными брандебургами и держался прямо, словно застыл под воздействием неведомого внутреннего холода. Подняв к нему глаза, Терезина смерила его вызывающим взглядом, в то время как на ее лице безуспешно скрываемая печаль сменилась неверными, нервными волнами наплывающего веселья.
Я думаю, она была привязана к своему мужу, она начинала видеть в нем отца, которого никогда не знала; не в силах удержать себя от перемен настроений и взрывов страстей, она в то же время упрекала себя за страдания уязвленного самолюбия, которые она причиняла человеку, любившему ее. Я увидел на лице Джузеппе Дзага, старого чародея, которого Терезина обзывала «лакеем всех черных и кровавых сиятельств», тень страдания; затем он повернулся и ушел, а мартышки словно принялись праздновать его уход новыми скачками и воплями.
В течение последовавших нескольких недель Терезина окружила своих зверят нежной заботой; она, кажется, очень дорожила этими нарушителями спокойствия. Она призналась мне, что они напоминали ей broglio, подмостки скоморохов на набережной Рабов, тамбурины и ликующий народ, шарманки, завезенные из Турции торговцами пряностями из Риальто, — венецианский праздник. Несмотря на все заботы, непоседливым зверькам не удалось прижиться в нашем климате. По всем углам расставили войлочные гнезда, зажгли печи, но холод и сквозняки вскоре сделали свое дело. Я с жалостью смотрел, как они жались к каминам; одна из зверушек так близко подвинулась к огню, что шерстка ее воспламенилась: жуткий огненный комочек заметался среди столов, поджег занавеску, вцепившись с душераздирающим воплем в ткань, и замер на полу, медленно догорая; черная гримаска бедняжки долго являлась мне в ночных кошмарах. Другие выбегали на заснеженный двор в поисках солнца и пальм; боюсь, что многих из них вытолкнули наружу слуги, упрямо продолжавшие придерживаться версии их инфернального происхождения. По утрам их находили прижавшимися друг к другу в сугробе, замерзшими в позах людей, объединенных в братстве страдания и непонимания. Терезина плакала, воевала со слугами, чуть не выцарапала глаза нашему мажордому Осипу Власову, которого она обвиняла в избиении зверьков. Она долго держала в руках последних выживших обезьянок: это было душераздирающее зрелище, ведь нет ничего жальче, чем грустная мартышка. Тут и там расставили жилища обезьян-цыган и вокруг жаровен, наполненных углями, маленькие больные грустно ждали своего конца — никто из них не выжил.
Отец оставил все идти своим чередом. Не говоря ни слова, он ходил по дому, избегая встречи с приживальщиками. Я полагаю, что Терезина охотно натравила бы на русский двор, как и на прочие европейские дворы, полчища обезьян-разрушительниц, но я не понимал, откуда приходит эта злоба и желание все поставить с ног на голову.
Я был сбит с толку, опечален неуважением к богатству и красоте, ведь наше племя всегда старалось украсить жизнь, доставить удовольствие, развлечь, одним словом — и пусть мне простят профессиональный термин, столь часто упоминаемый на этих страницах, — очаровать. Я уверен также, что она и сама не знала, в каком тайном уголке ее души рождался этот вихрь непослушания, вызова, чуть ли не подстрекательства. Сегодня я заключаю, что она была тем, что в нашем ремесле называется «медиум», что она неосознанно подчинялась загадочным вулканическим поветриям, которые в ту пору только начинали проникать в мир из самых глубоких и черных пластов земли. Тогда это влияние называли «астральным», позднее стали называть «теллурическим», сегодня называют «социальным», что, как мне кажется, ближе к истине. В те времена еще говорили о колдовстве, и мне пришлось дождаться выхода великолепной книги Жюля Мишле о волшебницах, чтобы понять, как эти бедные создания были оболганы.
Не было никаких сомнений: моя обожаемая, моя нежная Терезина была во власти еще незнакомых мне сил, что заставляло меня волноваться еще сильнее. Эти поветрия должны были вскоре распространиться по всей Европе, и проходимцы всех мастей сумели извлечь из ситуации свою выгоду, когда они поняли, что достаточно провозгласить свободу, чтобы угнетать, братство — чтобы расстреливать, и равенство — чтобы взобраться на спину народа и жить в свое удовольствие.
Читать дальше