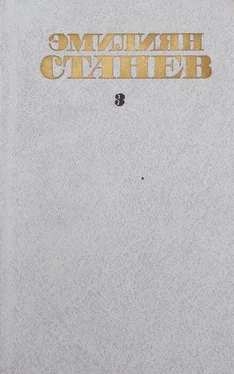Христакиев на минуту умолк, не сводя с Кондарева внимательного взгляда. На осунувшемся и строгом лице Кондарева заиграла ироническая усмешка, но он промолчал и продолжал глядеть прямо перед собой.
— Я тоже доходил до подобного отрицания и, скажу вам вполне откровенно, — продолжал Христакиев после некоторого колебания (он не мог понять, что означает эта улыбка, и решил, что она прикрывает какое-то смущение и слабость, в то время как сам он был уверен, что выглядит вполне искренним), — готов понять ваше отчаяние. Причина его — военные катастрофы и общие для всей эпохи беды; к ним я добавил бы еще и быстроту, с какой наш народ приобщился к цивилизации. Но я считаю, что моральная задача интеллигенции состоит сейчас в следующем: понимая ужас, царящий сейчас в мире, не распространять его среди народа и не строить на этом ужасе политики, потому что простого человека такая философия согнет в дугу. А для нашего человека с его азиатским взглядом на вещи это еще опаснее, потому что ему не на что опереться, как немцу или французу. Я говорю все это потому, что, мне кажется, я хорошо понял вас отчасти через самого себя, а отчасти, вернее больше всего, через ваш дневник.
Кондарев пытался следить за ходом рассуждения Христакиева. Сначала он слушал не без подозрительности, считая, что все это говорится с заранее намеченной целью запутать его и сбить с толку. Он не забыл двух неожиданных вопросов и был уверен, что после этого потока слов Христакиев опять задаст ему какой-нибудь особо важный вопрос. Так поступает большинство следователей, так поступали и те, которые когда-то его допрашивали. Все его внимание было нацелено на этот ожидаемый коварный вопрос. Но, вслушавшись в слова Христакиева и начав их понимать, Кондарев вдруг понял, что все они продиктованы неудержимой злобой. Казалось, следователь сам сознает это и потому старается быть как можно деликатней. Внезапно Кондарев почувствовал, как в нем подымается такая же ненависть к Христакиеву. Глаза судебного следователя холодно поблескивали, и, хотя он старался выглядеть спокойным и вежливым, левый уголок рта нервно подергивался. Его раздражала ироническая улыбка Кондарева.
В палате наступила тишина, из коридора донеслись шаги секретаря, прохаживающегося возле двери.
. — Вы поучаете меня? — спросил Кондарев, когда молчание стало слишком долгим.
— Почему? Впрочем, пусть даже так, я ведь старше вас по крайней мере лет на восемь, — с улыбкой произнес Христакиев.
— А теперь я хочу спросить вас, 'господин судебный следователь, кого представляете вы? О себе я уже слышал, что не представляю никого.
— Да, вы не представляете никого, кроме самого себя. Вы — продукт наших общественных, даже исторических, условий. Что касается меня, то я представляю определенный, ненавистный вам класс, а он, этот класс, в данный момент представляет государство.
— Я понимаю, кого вы представляете. Вы сами дали мне это понять. Вы, господин следователь, чернорубашечник и провокатор, — отрезал Кондарев, и его нижняя челюсть задрожала. — Вы рассчитываете растрогать меня какой-то моей трагедией, которую вы изображаете и как свою, хнычете о загубленных силах интеллигенции, объявляете меня несчастной жертвой тяжелых условий. Но разве вы сами не такой же их продукт, если разделяете некоторые мои мысли из дневника? — Вы явились ко мне как иезуит. Прошу допросить меня и оставить в покое!
Христакиев встал.
— Ах, вот как вы понимаете мое посещение! Чудесно! — воскликнул он. — Я немедленно исполню ваше желание. Ваша трагедия меня совершенно не интересует, потому что она мне давно знакома. И я не для того говорил о ней, чтобы вас заинтересовать, а чтобы показать, что достаточно хорошо вас знаю.
Он резко открыл дверь и позвал секретаря.
— Начнем, — произнес он и взял портфель из его рук. — Этот револьвер ваш?
Кондарев даже не взглянул на блестящий маузер, который Христакиев подбрасывал на ладони.
— Я уже сказал, что у меня не было оружия.
— Корфонозов рассказал мне, когда и по какому случаю он вам его подарил, отрицать бессмысленно. Револьвер найден в кукурузе вместе с электрическим фонариком вашего товарища, и из этого револьвера вы стреляли по полицейским.
Кондарев молчал.
— Признавайте не признавайте — револьвер ваш. Но, несмотря на это, я жду, что вы скажете.
— Да, револьвер дал мне Корфонозов в прошлое воскресенье.
— Помните, сколько раз вы из него выстрелили?
— Я не стрелял.
Читать дальше