Смерть стоит в очереди четвёртой. Повернув лицо к Егору Егоровичу, она смотрит мимо него и сквозь него, вообще — никуда. Может быть, раньше смотрела в глаза, оценивала, любила или ненавидела, общалась, так сказать. Теперь ничего не осталось от прежнего. От её бесцветных глаз сердце вольного каменщика холодеет. Он чувствует, что он здесь неуместен — сытый человек в теплом пальто. Но уйти ему невозможно: он прикован. Смерть жует серыми губами, у неё под носом реденькие усики, а по одежде она — женщина. Но таких женщин не бывает, таких людей не должно быть. Егор Егорович залит ужасом, веки его горят сухими слезами, — так с ним первый раз в жизни. Смерть переступает с ноги на ногу, отворачивается и делается обыкновенной женщиной, до крайности бедно одетой. От неожиданности Егор Егорович вскакивает и голосом безумца, впрочем, никому не слышным, кричит «караул». Он кричит долго и протяжно, как воют собаки, испуганные ночными тенями, пока не срывает голос. Так уже было с ним однажды, и много парижских домов было разрушено его руками. Но тогда он только догадывался — теперь он наконец узнал, потому что теперь призрак нищеты и смерти стал ему ближе и родственней, как тот скелет, нарисованный на стене чёрной храмины посвящения: «Ты сам таким будешь». Теперь он готов вцепиться в седую бороду Строителя Вселенной, злобно пустившего в пространства вертящийся шарик с несчастными букашками: «Так ты э т о называешь величием и стройностью мироздания?» — и в лгущую глотку влить ему котелок бурды, именуемой общественным супом, чтобы он захлебнулся своим произведением, чтобы запросил пощады у разгневанного человека, пал бы на колени и обещал немедленно загасить все светила и омертвить планеты. И только теперь впервые вольный каменщик Егор Тетёхин, сын вдовы и мастер доски чертёжной, понял с необычайной для его простацкой головы ясностью, что царственное искусство не забава для толстячков и не тихая ритуальная молитва, а прелюдия великого бунта духовно просветлённых рабов против лживых жреческих причитаний и сладенькой теплоты, которую суют в рот причастникам на золотой лжице. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры! Не мир принёс я вам, а меч! И вот маленькая вошка, запутавшаяся в бороде Строителя Вселенной (потому что ведь философии-то он не знает, не обучен), Егор Егорович хватает с престола пламенеющий меч и, размахивая им, бежит по бульвару Пор-Руаяль до остановки автобуса. Заметив знак, шофёр тормозит машину, и вольный каменщик, запыхавшись, рушится на свободное местечко второго класса.
* * *
Если бы все было в порядке, пальто Егора Егоровича было бы не только приличным, но и новым. Но вот странная вещь: стоит человеку попасть в беду, как пальто его не делается, а кажется подержанным, и уже не сидит, как сидело прежде. Это необъяснимо, как необъяснимо, почему иным голосом мы говорим о нужде другого, иным — о нужде своей и почему от полноты бумажника зависит походка. И ещё: раньше Егор Егорович, проходя мимо кондитерской, смотрел в окошко и соображал: «Кажется, таких тортов Анна Пахомовна не любит»; теперь он совсем не смотрит, и торты стали деревянными, необычайно глупой формы, с какими-то липкими картошками, неприятно. И наконец ещё одно: что бы Егор Егорович ни делал, о чем бы он ни думал, — в его голове торчит колышком и тупо покалывает обязательная мысль номер два: как же так? Что же будет дальше? Ответа нет, и, однако, не верится, что нет ответа. Как же так, без ответа?
И вот опять сидят трое в комнате, прилегающей к аптечному магазину Руселя. Букет запахов: эфир, скипидар, ментол, мускат, мыло, карболка, paribus dosis, mixti — detur — signetur, через час по столовой ложке. Брат Русель ничего не обоняет, так как это его природный запах. Брат Дюверже побаивается шкапчика с надписью «Venena» [104] «Яд» (лат.).
. Брат Тэтэкин стесняется приступить к делу, но наконец говорит:
— Я обязан предупредить, братья… Вот я на всякий случай… Тут как раз пятьсот, — раз, два, три, четыре, пять — пятьсот.
Деньги всегда внушают уважение, но не все можно понять. Сердце брата Дюверже ёкает, потому что тут, очевидно, новое деловое предприятие русского брата, а между тем сейчас дела идут плоховато. И он уже нащупывает карандаш, чтобы начать вычисления, хоть и неизвестно какие. Аптекарь уверен, что брат Тэтэкин не зря выложил стофранковые билеты, и сейчас начнётся что-нибудь замечательное. Егору Егоровичу приходится продолжить пояснения:
— Самое печальное, что это, вероятно, в последний раз. Я в таком огорчении, что и не знаю. Но очень уж боюсь, что могу позже смалодушествовать, то да се, разные осложнения. Одним словом — вперёд за пять месяцев, не считая истекшего. Итого — шесть, а уж там — как случится. Говорю просто: надежд никаких не имею.
Читать дальше
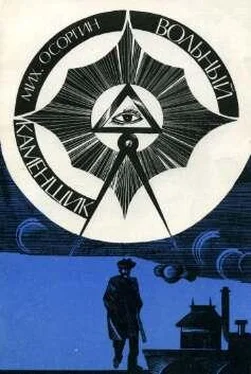




![Михаил Осоргин - Сказки и несказки [Совр. орф.]](/books/397067/mihail-osorgin-skazki-i-neskazki-sovr-orf-thumb.webp)