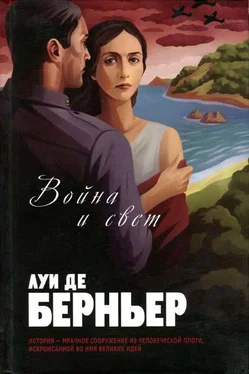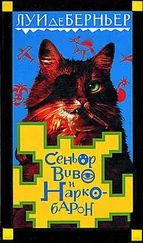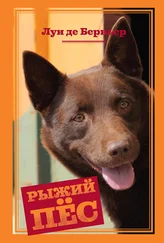— Слезай, — повторил сержант Осман, но Леонид, не двинувшись с места, понурил голову, зажмурился и зарыдал. У него тряслись плечи, слезы катились по щекам, скапливались на кончике подбородка и срывались, шлепаясь на башмаки. Народ смотрел, а Леонид плакал.
Он плакал об утрате всего, во что верил и за что боролся. Всю свою сознательную жизнь он трудился во имя идеи Великой Греции и мечтал о днях, когда Эллада вновь обретет свои исторические территории, а греки будут сами править собой и перестанут быть чьими-то подданными. Так долго казалось, что история на его стороне, а Греция все разрастается и разрастается. Крит, Ионические острова, Салоники — все стало греческим. Он столько ночей отдал затянувшемуся эпистолярному заговору, при свете вонючего фитиля строча о неизбежности всего этого, и теперь невозможно было вообразить, что история вдруг переметнулась и на месте Греции создала страну под названием Турция. Леонид стал националистом еще до того, как эрозия и оползни времени обнажили непростительную тупость национализма. Живи он на три поколения позже, стал бы интеллектуалом, считающим национализм и религию озлобленной супружеской четой, из чьей зловонной брачной постели не выползет ничего, кроме порока, но сейчас стояли простодушные времена, когда православие являлось единственной очевидной истиной, а национализм был романтичен, почитаем и славен. Пусть сухарь и зануда, Леонид был величайшим романтиком и плакал слезами романтика, увидевшего, как рухнули все его мечты. Исторгнутый из семьи, которая вся безвозвратно сгинула в пожаре Смирны, не имеющий друзей в этом отсталом городишке, преданный историей, он теперь лишился и прекрасных идей, составлявших смысл его жизни. На долгом переходе в Телмессос Леонид заговорит лишь раз, когда понадобится перевести кое-что с греческого — языка, которому он столько лет тщетно пытался научить городских детей и который вскоре всем им придется выучить, хотят они того или нет.
Наконец Леонид уныло сполз со стола и с горечью сказал сержанту:
— Вам это никогда не простится.
Жандарм глянул через плечо и ответил просто:
— Меня не за что прощать. Я против вас ничего не имею. Мне вообще до вас дела нет. Мне плевать, живете вы здесь, или в Греции, или на луне, или на дереве, как обезьяны, или на верблюжьем горбу. Коль хотите знать, у меня самого одна бабка была христианкой из Сербии, и меня не колышет, даже если вы неверные. Хотите найти виноватого — вините Грецию, что напала на нас и раскурочила полстраны. Все это, — Осман обвел рукой площадь, — по приказу сверху, и мне остается предположить, что начальники знают, чего делают. Если станете мешать мне исполнять обязанности, узнаете, что я внезапно теряю терпение, и кое-кто из моих солдат с несомненной радостью намекнет о моем неудовольствии. Надеюсь, вам все ясно.
Леонид-учитель с минуту разглядывал Османа. Странно, он вовсе не похож на врага. И глаза карие, как у деда. Леонид побрел к толпе. От стыда горели уши, в душе клокотали удивление и злость на этих людей, что, как бараны, допускали над собой подобное. Он повторял про себя слова, которые казались столь справедливыми и на которые никто не пожелал обратить внимания.
Ну наконец-то можно отправляться, подумал сержант Осман. Ему тоже люди казались баранами, только капризнее. Зато они менее капризны, чем козы. Все готово. Вроде бы всех христиан согнали и построили.
Но сердце сжималось при виде этих людей. Полно дряхлых стариков, которых жизнь в трудах скрючила пополам. Беременные женщины, ребятишки, слишком маленькие, чтобы самим пройти долгий путь, но слишком тяжелые, чтобы их нести. Да еще нищие, сумасшедшие и идиоты. Сержант встряхнул головой и потер глаза. Странно: когда думаешь о человеке вообще, представляешь мужчину лет двадцати-тридцати, но вот тебе наглядное доказательство, что подобные видовые идеи весьма далеки от реальности. Заранее можно сказать, что без транспорта вся затея обречена на провал. В пути неизбежны смерти, а следовательно — задержки.
Остальные жители города, собравшиеся посмотреть на исход, баламутить явно не собирались. Странно примолкшие, будто зеваки, сбежавшиеся поглазеть на процессию животных, а не проводить друзей и соседей.
Первую закавыку учинили не зрители; искру бросила Поликсена, уже близкая к истерике, потому что нигде не видать Филотеи. Теперь она вдруг вспомнила о Мариоре.
— Мама! Мама! — закричала Поликсена. Швырнув узел, она отцепилась от Харитоса и стремглав помчалась к церквушке в нижней оконечности города.
Читать дальше