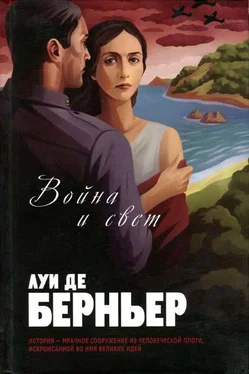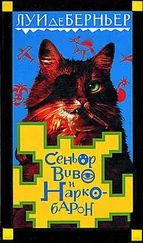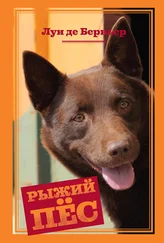Аллах словно услышал меня и решил пошутить: взял да усилил снег, взял да усилил ветер, взял да усилил холод, и все превратилось в буран. Я слыхал о буранах от тех, кто бывал зимой в горах, но и представить не мог, каково это, когда кости ноют, будто переломанные, бесчувственные пальцы не сгибаются, зубы выбивают дробь, а легкие твердеют от каждого морозного вдоха. У нас не было теплой одежды, потому что зиму еще не ждали, а запасная смена лежала в траншее, погребенная под грязью и валившим снегом. Ребятам удалось достичь невозможного и разжечь костерки, но что от них толку, если ветер выдувал все тепло? Обхватив себя руками и притоптывая, мы тщетно жались к огню. Франки не стреляли, мы тоже.
Наверное, франкам больше досталось от дождя, потому что они были в низине и поток пронесся по их траншеям после наших, зато мы хлебнули снега, ветра и холода — наши позиции располагались выше. Мы ничего не могли поделать, только жались друг к другу. Восемь ребят из моего взвода и я решили лечь в кучу, чтобы сберечь тепло. Чем ниже окажешься, тем меньше чувствуется ветер, это точно. Засунув руки в рукава, мы лежали вповалку в слякоти на камнях, нас грыз ветер, заметало снегом, во рту отдавало железом, и так перебивались до рассвета, когда выяснилось, что у некоторых мокрая одежда примерзла к земле и они не могут подняться. Трое умерли, четверо лишились пальцев на руках и ногах, одному потом пришлось отрезать уши. Я потерял палец на левой ступне и чуть не лишился первых фаланг на трех пальцах руки, но обошлось, хотя чувствительность к ним так и не вернулась. Имам умер во время молитвы — он стоял на четвереньках и лбом примерз к земле, а в стрелковой ячейке нашли замерзшего насмерть часового, который вцепился в винтовку, взятую «на караул». Меньше пострадали те, кто заставил себя ночь напролет ходить, а больше всех — свалившиеся в изнеможении. Стужа покалечила каждого, нас отвели в тыл, заменив другим подразделением, но только двое потом вернулись на передовую. Страшнее бедствия я не испытывал и, после того как смерть едва меня не проглотила, изумляюсь каждому прожитому дню. Мне не забыть обжигающую, пульсирующую боль, пронзавшую меня, когда я начал оттаивать, она ужасна, как и боль от холода. Примечательный момент в этой обиде, что нанес нам Аллах: через три дня, когда одежда разморозилась, вши ожили как ни в чем не бывало. Единственный плюс — у нас появилось мясо околевших мулов и ослов, что было приятно после стольких месяцев на оливках, хлебе и дробленой крупе.
После бурана произошло нечто удивительное — пропала дизентерия. Отныне никто не стонал от желудочных колик, не вытуживал в сортире жизнь вместе с кровавой слизью. Погода вновь стала чудесная, над Афоном и Самофракией светило солнце, будто мы никогда не ведали ничего, кроме покоя.
А вскоре однажды ночью исчезли анзаки и войска в Сувле. Сгинули, как призраки. Они оставили винтовки, которые сами в нас стреляли: к спусковым крючкам были привязаны банки, куда капала вода или сочился песок, и наполнившаяся банка тянула курок. Ранним утром на позициях, где мы положили австралийскую легкую кавалерию, рванула огромная мина, и еще было много ловушек, взрывавшихся, когда мы занимали траншеи. Зряшная злоба. Франки взорвали свои склады на берегу, но все равно столько осталось, что мы еще два года подбирали всякое снаряжение. Сохранилась и тушенка, которая ни нам, ни франкам особо не нравилась. В траншеях одни солдаты подготовили хохмы вроде винных бутылок с керосином, но другие оставили тарелки с едой и записки. Прочесть я, конечно, не мог, но вроде бы в них говорилось: «До свиданья, Джонни-турок, спасибо, что уважал Красный Крест, и помни: мы сами ушли, вы нас не выгнали». У меня сохранился листок, уже очень старый и пожелтевший, где, вероятно, написано: «До свиданья, Абдул».
Подозревая, что на юге англичане с французами тоже смоются втихаря, мы срочно перебросили туда свежие дивизии из Габа-Тепе и Арибурну, но франки снова застали нас врасплох. Они проводили штурмы и вылазки, создавая впечатление, будто никуда не собираются, и даже в ночь ухода отразили нашу атаку. Мы приготовили доски — перебираться через вражеские траншеи, и всякую горючку — поджигать лодки франков, но, стыдно сказать, после долгой и яростной артподготовки из новых немецких пушек, многие солдаты отказались идти в бой. Офицеры лупили нас саблями плашмя, но крики «Алла! Алла!» замирали на наших губах, и франки косили нас, застывших у брустверов. Такое уже было месяцем раньше. Я долго старался понять, почему так вышло, а ответ прост: месяцами мы сидели на оливках и хлебе, нас морозил холод и пекло солнце, мы маршировали туда-сюда, туда-сюда и досыта наслушались о мученичестве, мы неисчислимо видели смерть и муку, а с нами обращались, как с рабами или собаками, били и понукали, и мы слишком устали, чтобы опять бросаться под град поющих пуль и на колючие заросли заточенных штыков. Мы изнемогли и не желали воевать. Мне стыдно, как вспомню, что мы покрыли себя позором на глазах франкских солдат. Я знаю, многие наши солдаты переползли к франкам, чтобы сдаться. Но такие бойцы никому не нужны, их бесчестье достойно презрения, я не считаю их турками. Наверное, это были армяне, арабы или боснийцы, но не турки.
Читать дальше