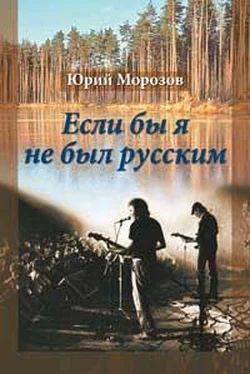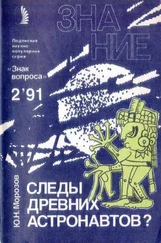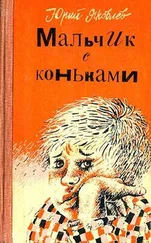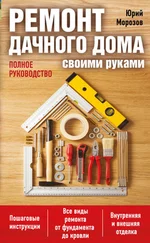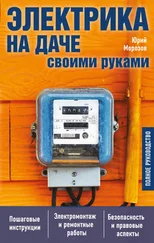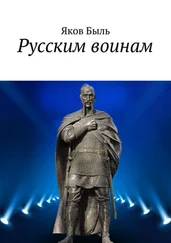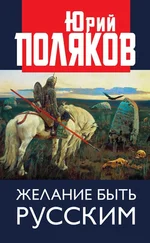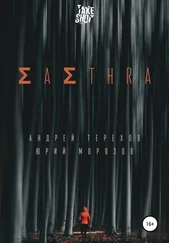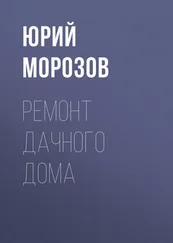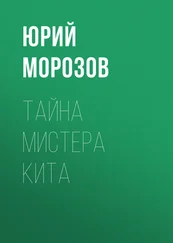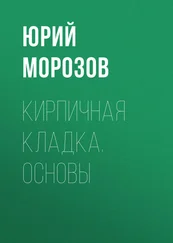Яблоки оказались вполне пригодными для еды, и только быстро набившаяся оскомина мешала их дальнейшему поглощению. Песочные часы судьбы отмерили август, потом сентябрь и октябрь. Готовясь к зиме, Серафим обобрал все яблони, аккуратно разложив яблоки по двум бочкам и ящикам, найденным в деревне. В лесу он собирал ягоды, в основном малину, орехи, а также грибы. Грибов насобиралась пропасть, так что некуда уже было вешать их для сушки. В самом доме и в деревне нашлось по мелочи всякой посуды: пила, топор, ножи и ложки. На дрова разбирай любую избёнку и в лес ходить не надо. Когда однажды сереньким утром вышел Серафим на крыльцо, оказалось, что бурые тона вчерашнего дня чья-то величественная рука переменила на девственную белизну свежезабеленного холста. Он сошёл с крыльца в неглубокий снег и ровной цепью продавливаемых до земли следов провёл по холсту первую линию зимнего рисунка. Издалека дым над трубой «его» дома, словно вновь обретённая родина, заставлял двигаться и жить.
Мне кажется излишним описывать в мелочах робинзоний быт моего героя. До меня это сделал не один десяток маститых мастеров приключенческого жанра. Я начертал схему, домысливай её всяк по-своему в зависимости от темперамента, багажа привычек и склонности к умозаключениям. Мне менее интересно рассказывать о каждодневной борьбе за жизнь отрезанного пространством и временем от единого тела человеческого одного из бесчисленных атомов его и, хотя я сам люблю посидеть у весело пылающего костра или очага, имеет ли смысл описывать четырёхмесячное сидение возле них Серафима? Выйти из дома в заваленный по застрехи сугробами мир было не очень просто, и единственным местом зимних прогулок являлась тропа, пробитая Серафимом от дома к речушке, извивавшейся под горой. Кстати, из неё ещё осенью Серафим наладил тягать всякую мелкую рыбёшку и то же самое продолжал делать сквозь широкую прорубь частоячеистой сетью, поднятой на чердаке «его» дома.
Живуч человек пуще всякого животного, и хотя не раз расстраивался нежный городской кишечник от грибов и яблок, посреди пустых полей и лесов, трескучих морозов и ночных страхов, приходящих рука об руку с миражом богооставленности, билось его сердце и трепетал обиженный ум. (И, надо заметить, без всяких жизнеутверждающих сентенций, без бодрящего ощущения могучего соседского локтя и, о ужас, без направляющих усилий руководящих и идеологически выдержанных товарищей.) Но глупо было бы обойти молчанием истинное состояние Серафима, то, в какой микроскопический шарик вновь свернулась его душа после изгнания из обители. Оно ведь стало ещё одной оборванной нитью из тех немногих, что привязывают человека к жизни, вопреки страху смерти. Но и страх этот преодолел он однажды, а где раз — там и другой возможен. Проницательной публике, я чувствую, важно взять из жития Серафимова то практически полезное для неё и жизненное, что ещё сохранилась в нём. Но вот вопрос, что? Оставим за бортом способности к написанию сомнительных повестушек и ухаживанью за женщинами, талант к досужим разговорам о неразрешимом разговорами смысле жизни и склонность к теоретическому террору. И что мы обнаружим в итоге? Восприятие боли? Очень слабое. Ощущение космической и Божественной трансцендентности? Пройденный этап. Чувство ненависти? К огорчению публики, ею он сильно обделён ещё при рождении. Кто-то советует мне, что не проще ли, мол, отложить догадки в сторону и решительным шагом первопроходцев (чьи путешествия нередко завершались в волчьих ямах и западнях, расставленных рачительными аборигенами) двинуться к всё объясняющему, но отнюдь не разрешающему, будущему. Я согласен, но прежде, чем раз и навсегда покончить с уродливым и безобразным прошлым моего героя, хочу предложить публике следующий документ.
Однажды, обнаружив в одной из покинутых изб чернила и пожелтевшую, покоробленную ученическую тетрадь, принёс их Серафим в своё логово и, заточив щепку, принялся, макая ею в чернила и густо покрывая бумагу кляксами, писать. Я думаю, лучше всякого постороннего наблюдателя его рукопись расскажет о том, что зрело у него в душе в эту долгую и странную зимовку.
Костя жил в деревне Удово от рождения семь лет. Скучная была деревня. Глухая, бездорожная, никому не нужная. Одни старые бабы жили в ней да Володька-глухой. Косте он казался ужасно добрым, так как всегда улыбался и говорил что-то нечленораздельное, похожее на баранье блеянье. Дружить Косте было не с кем, потому что один маленький был он на всё Удово. Слепая бабушка Фетинья, у которой он жил, в подруги не годилась, потому что за ней самой уход требовался. А Володька то рыбу ловит, то коров пасёт, то дрова рубит — всё интересными делами занимается. Сначала Костю пугали его странные глаза, как у филина, да потом привык. Говорить с глухим легко было. Тот всё понимал, а лишнего, как бабушка Фетинья, ничего сказать не мог. Только самое нужное. Руками показывал: «пошли, давай, хватит». Голову глухого венчала словно прилипшая навеки кепка, без которой его никто никогда не видел. Жена глухого Нюрка, помершая прошлой зимой, частенько бивала Володьку длинной палкой, которой гоняла коров, и всё старалась попасть ему по голове, по кепке, отчего Косте казалось, что под кепкой у глухого сплошная кровавая рана, а кепка оттого и не снимается, что прилипла к ней навсегда. Но дружбе эти представления не мешали. Раньше, рассказывала соседка баба Стефа, не Володька Нюры боялся, а всё Удово его самого. Но больше всего девки и бабы до 50 лет — спуску он никому не давал, нам с Фетиньей тоже — с удовольствием шамкала о прошлом старая Стефа.
Читать дальше