Многие думают, что им, как невестам, нужен вестник – греч. «ангел», и они путают его с англичанином. Но это не совсем так.
Да, они не понимают нашего языка. Положение тут просто катастрофическое. Они понимают лишь отдельные слоги: звук «сит», как написано в «Камасутре», разные «чин-чин», «сим-сим», «пинь-пинь-пинь», как тарарахнул зинзивер у Хлебникова, и как Муслим Магомаев поет: «Лала-лала-лала-ла». Сердце сжимается при виде складок, перерезающих их лоб, когда они читают какое-нибудь длинное слово.
Именно это обстоятельство, вероятно, дало повод Пьеру посчитать свою будущую жену глупой (нем. blöd)… Странная логика! Если есть какой-то безумный мир, куда блядь попадает, так давайте бороться с его идиотизмом (нем. blödsinn), а не с ее светлостью (англ. Ladyship)!
Может, они мыслят кровью. Я бы вообще запретил тампоны; но ограничусь тем, что Эмпедокл сказал: «Мысль есть омывающая сердце кровь».
Посмотрите в их глаза: неужели вам не очевидна разумность? Тут все дело в отсутствии передачи – поверьте мне.
У кого глаза горят – как у Левина («он, с его привычным ей лицом, но всегда страшными глазами», – думает о нем сука Ласка), – у того вообще нет проблем, потому что он может говорить взглядом.
«Если можете меня простить, то простите, – сказал ее взгляд, – я так счастлива».
«Всех ненавижу, и вас, и себя», – отвечал его взгляд.
Иногда, может, и за границу они едут только в поисках своего языка: наш не подходит; может, подошел бы эскимосский, где одни vaques – смысловые пятна. Бог его знает. А английский, видимо, притягивает потому, что многие слова там короче. Вот и все.
И еще – он, как бы это сказать, нейтриннее, что ли. Проникновеннее. Ближе к тому идеальному языку, на котором говорит океан.
В связи с этим вспоминается один случай.
Когда Эйнджи Сидоров улетела, всем нам было, конечно, жаль, всему космическому поколению, потому что она писала:
Раздувая, как кони, ноздри,
Мы в немое уйдем кино, —
и я, например, так и считал, что она киничка. Да еще за неделю до своего отъезда она писала:
«Какая лезет в голову первая мысль? Мне, например, что блядь я гиблая, суечусь не по делу, а чувствую, что надо где-то по делу, вот по этому, которое – в музыке, в небе, в словах, а вот нет. <���…> Я вот между прочим, вот сейчашная, и вовсе не хочу в Америку, я знаю, что три меня там загнутся и сдохнут [11], а одна надуется и будет ходить, есть, хотеть [12]. Вот ведь веревки какие. Я же, Шарыпов, все понимаю, беда какая, лучше бы наоборот, а сделать ничего не могу».
Вдруг как-то ночью звонит Шваб и спрашивает:
– Тебе жаль Акакия Акакиевича?
Спросонок плохо соображаю.
– Нет, – говорю.
После паузы он мне и говорит, изменившимся тоном:
– А я думал, жаль. Если бы ты сказал, что жаль, я бы спросил тебя: а как же ты тогда пишешь, что наши пути расходятся?
И бросил трубку.
Я так расстроился, что не мог спать. Что у нас за язык, в самом деле, твою бога душу, в кои-то веки мне позвонили из-под земли, и я не мог высказать то, что надо.
И вот лежу я и думаю: почему мне не жаль Акакия Акакиевича? (А мне, правда, не жаль.) Мне жаль Терезу у Милана Кундеры. И Анну Облонскую (по мужу Каренину). Мне даже Лизавету Ивановну жалко. Мне так стало их всех жалко, что я не выдержал и пошел в туалет.
В туалете у меня так: если сесть лицом к двери, то спереди, прямо в душу, смотрит поэт Пучков. Сзади – улыбающаяся сквозь слезы Орнелла Мути.
И вот сижу я и думаю. Представляю Лизавету Ивановну, когда Томский вышел из уборной, а она осталась одна. Представляю Терезу, как она сидит в туалете, и «нет ничего более жалкого, чем ее нагое тело, сидящее на расширенной оконечности сточной трубы». («Расширенной» лишнее: без этого было бы еще жальче.)
Потом вспомнил попрыгунью на пароходе, как чайки Волге кричат: «Голая! Голая!»
И тут я стал понимать.
Во-первых, все они были голые. Акакий Акакиевич потерял шинель – это не то.
«Голое существо есть тупик», – писал еще А. Ф. Лосев. Самое ценное в голой женщине – это единственное неясное место, ее cunt. Да и то если смотреть как Набоков, т.е. видеть пушистый холм. Если смотреть сверху, through, то увидишь дыру.
С другой стороны, они были голые реки . Акакий Акакиевич – это какая-то ждановская Пиявка. Т. е. опять не то.
Садко лег спать с красной девицей и накинул на нее левую ногу – думая, что сей акт гражданского состояния не вырубить топором – а утром проснулся под Новгородом, а левая нога в реке Волхове. Вот она, вся тут, гражданская война.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
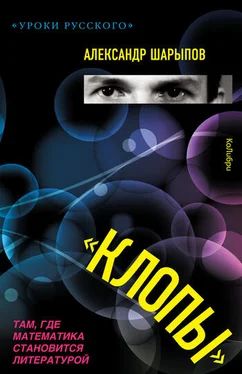
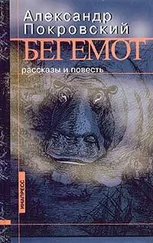
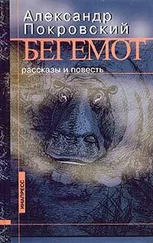
![Александр Варго - Донор [сборник]](/books/26963/aleksandr-vargo-donor-sbornik-thumb.webp)
![Александр Варго - Прах [сборник]](/books/27157/aleksandr-vargo-prah-sbornik-thumb.webp)
![Александр Карнишин - Попаданцы [Сборник рассказов; СИ]](/books/27656/aleksandr-karnishin-popadancy-sbornik-rasskazov-s-thumb.webp)
![Александр Карнишин - Миниатюры [Сборник; СИ]](/books/27661/aleksandr-karnishin-miniatyury-sbornik-si-thumb.webp)
![Александр Карнишин - Чернуха [Сборник рассказов; СИ]](/books/27683/aleksandr-karnishin-chernuha-sbornik-rasskazov-si-thumb.webp)




