Впрочем, оставим это. Нас ведь не их убийство описывать позвал зов трубы. Мы описываем историю с Кохом, и как только нас тянет в сторону, мы должны упираться, наступая на горло.
Но тогда еще, год назад, убийства и не было, и нас волновал другой – не та, толстая рохля, а этот, подтянутый, который спал за стеной от меня и через коридор от Терентия. Даже не он сам, хотя жалко: образованный, а на опыте его: не случится ли это и с нами? – всего лишь вот такая сугубая частность.
Но обо всем по порядку.
Мы взяли Фурье, Мора, Оуэна и Уолша. Мы рассмотрели всю цепь: с чего начать? – и ухватились именно за Лавджо, ибо он речь ведет о движении. Как оно возникает, и т.п. – нам показалось, что, дернув за это, т.е. поняв побуждения, мы без труда выйдем на открытую дверь – и как Ипат из нее вышел, и оставил открытой, и каким путем пошел дальше, и пр.
И ведь что характерно? Несмотря на все дальнейшие заблуждения, которые мы не снимаем с себя, – да, ужасные, постыдные заблуждения, от которых теперь только схватиться за голову и упасть на коленки, – несмотря на все это, первое наше движение, то есть выбор начал – даже теперь, имея весь опыт событий, и то нельзя утверждать, что он был неверен. Где-то мы были правы, я и сейчас в это верю – хотя бы вот в самом начале, в минуту первых шагов, в секунду разгиба спины, в одном сантиметре зародыша – но где-то он должен был вести себя как должно! Ведь он человек? «Мы не какие-нибудь долгопяты, – говорит Лавджо Оуэн, – мы слезли с дерева». Пусть все остальное – максимализм, но в зародыше – он человек, и притом образованный, черт возьми! В какой-то момент он должен был разогнуться! Ведь это закон: ведь встал же – пусть не понимая, зачем – но поднялся гиббон! Он болтался, как маятник, но встал и сделал шаги – прежде чем разводить руками. Орангутан! Рыжий орангутан пошел, опираясь на две трости, как ветеран партии. Горилла! Что говорить? Волосатая горилла! – но и та приподнялась, как Гегенбауэр, над столом, опираясь на эти фаланги, – и свирепо оглядывалась вокруг. Оуэн доказал: зачем-то им это надо, да просто их унижает тот факт, что они ходят прогнувшись. Он должен был себя разогнуть.
И еще одно. Ждать съезда Советов – идиотизм. «Кризис назрел» – он же убедит хоть кого: ждать никого и ничего нельзя. Ибо никто ничего не даст: это идиотизм.
Ипат поднялся, как всякий примат, – и увидел, что ждать нельзя. Хватит наконец объяснять мир – надо изменить его, черт возьми! Но дальше пошли разногласия.
Я полагал, что движение происходит стихийно.
– Это же образованный человек, – говорил я, – а вокруг одни сплошные потолки да обывательские бельма! В глазах у него потемнело, и он выбежал и схватился за топор. Вот как все было.
– Ну, – возражал Терентий, – разве это Ипат? Это я не знаю, это у тебя получился какой-то Засулич! Ипат же образованный человек. Разве он мог не видеть, что устрашающая роль топора уже не имеет места?
– Но ведь остается эксцитативная роль: вот и Николай говорит…
– Николай говорит как раз не то! – раздражался Терентий. – Он говорит, что если гнусность не вызывает эксцессов у обывателя, то прошибет ли футляр топор, в свою очередь?
– Вот именно: прошибет ли? Он же не говорит, что не прошибет. Он говорит: прошибет ли?
– Да нет, тут совсем не то, – досадовал Терентий, шагая из угла в угол со стаканом в руках. Он полагал, что движение происходит организованно. – Ведь куда он пошел? Он пошел, как написано в «Что делать?», расчищать авгиевы конюшни. В Хронопуловское училище. Что оно для Чугуева? Гатчина! Казармы и студенты, вместе взятые. Он пошел наталкивать на мысль: хронопуловцев – в первую голову, земцев – во вторую голову, и сектантов – в третью.
– Но зачем ему топор? – настаивал я.
– Вот это не знаю, – отвечал Терентий. – Думать надо. Кто такие земцы? Сектанты? Сектанты… Может, отсекают что-нибудь? И он, чтобы войти в их круг…
Вот: уже здесь мы пошли не туда. Неизбежно! А почему? Потому что ведь мы брали человеческий опыт. А он бы нам не помог: это зона. Это зона, где сел иной разум. Мы отошли от костра, обернулись – и увидели два костра. Потом увидели девушку в куртке, подошли – а вместо лица у нее морда. Но это понятно теперь.
А тогда – при всех раскладах Ипат, несмотря ни на что, оставался у нас незапятнан. Как голубое пятно болоньи на грязи.
И, пожалуй, что я этим горд. Пожалуй, мы этим горды: тем, что были и есть выше прокурора. Мы не опустились до того злорадства, что он ходил туда и сюда, как бы шаг вперед и два шага назад, и вышел в дверь как бы задом, как Жопов перед Сусловым, и упал потом в грязь. Не было и близорукости: мы различали оттенки. Но даже самое крайнее – даже когда факты стали выбивать из-под нас почву – мы пытались поставить его, хотя бы в виде орангутана с одной тростью. Даже и в том бесспорном, казалось бы, факте, что его забрал и потом здоровался Епротасов – мы полагали, что выпустили его как с.-д. – «на разводку», – чтоб он собрал кружок и в одно из собраний накрыть всех сразу. А сам он не виноват. Или что если он и подлец, то раньше им не был. Или был, но уже не будет. И даже когда был вышиблен последний костыль, и он упал перед нами, даже и тут мы считали, что это, как снимок в голове, – объективный закон электромагнетизма. Что сознание не виновато, раз все определяет бытие.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
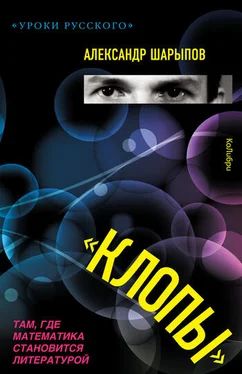
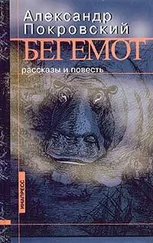
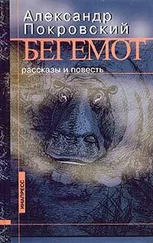
![Александр Варго - Донор [сборник]](/books/26963/aleksandr-vargo-donor-sbornik-thumb.webp)
![Александр Варго - Прах [сборник]](/books/27157/aleksandr-vargo-prah-sbornik-thumb.webp)
![Александр Карнишин - Попаданцы [Сборник рассказов; СИ]](/books/27656/aleksandr-karnishin-popadancy-sbornik-rasskazov-s-thumb.webp)
![Александр Карнишин - Миниатюры [Сборник; СИ]](/books/27661/aleksandr-karnishin-miniatyury-sbornik-si-thumb.webp)
![Александр Карнишин - Чернуха [Сборник рассказов; СИ]](/books/27683/aleksandr-karnishin-chernuha-sbornik-rasskazov-si-thumb.webp)




