— Тео, в таком виде ты мне не нравишься.
Раньше он был другим, длиннополая сутана ограждала его от всех возможных грехов. И даже черная одежда с повязанным вокруг шеи черным платком. Но особенно сутана. Достоинство ее было в том, что она очищала, вернее, преграждала путь грязи.
— Мне не нравится видеть тебя в светском платье. Это — профанация.
Он снисходительно улыбнулся. Должен сказать тебе, дорогая, одну вещь. Тео очень редко навещает меня и, надо сказать правду, так же редко звонит по телефону. Он порвал семейные связи и объясняет, что его круг гораздо шире, семья — конечно, семья, но семья всего лишь маленькое сентиментальное пятнышко, а что такое сентиментальность? Сам Христос, ты же знаешь…
— Сам Христос: кто моя мать и кто мои братья?
Сейчас он здесь, мне приятно его видеть любым: мирским, светским, прагматичным, холодным — мне приятно. И есть еще кое-что, что я хочу тебе сказать, я подозреваю, что Тео поддерживает отношения с Гремилдой. Да, да, близкие отношения. Однажды по телефону:
— Тут на днях Гремилда сказала мне, что…
Сейчас он здесь, и я сказал ему:
— Тео, сын, я очень страдаю.
Я находился в палате с одним типом. По ночам он кричал на всю больницу:
— Кулатио! Кулатио!
Как странно. Неужели это имя? И вдруг в одну из ночей утих, и я сказал:
— Стало лучше.
Но сиделка, принужденно улыбнувшись, ответила:
— Он умирает.
Он попал в аварию на мотоцикле. Теперь умирает. И однажды утром я не обнаружил его на койке. На его месте был обросший бородой старик, он бесконечно двигал беззубым ртом, точно жевал жвачку.
— Тео, сын.
Мы оба наблюдали гниение. И я хотел сказать ему:
— Я испытываю к нему отвращение и любовь.
Но ничего не сказал.
— Как ты себя чувствуешь? — спросил он.
— Хорошо. Но ты не спрашиваешь почему.
Тео был врачом, я забыл об этом. У него двойная броня: медик и священник. Мы с ним совсем разные люди, в нем нет присущей мне мягкости.
И тут я увидел его в соборе, в момент посвящения в сан священника или дьякона, не знаю. Был он и еще двое, но только один из трех был служителем Господа, отрешившимся от всего мирского с детства. На всех было белое, доходившее до пят, облачение священников, более белое и чистое, чем репутация, и они лежали на плитах пола. А мы находились наверху и видели их распростертыми на камнях унижения. Но белизна их одежды унизительной не была, она преображала их в мучеников, не знаю, как объяснить. В апофеозе чего бы то ни было, любой вещи, выходящей за пределы общепринятого порядка, мы всегда склонны видеть как величественность, так и унижение. А музыкальный туман отдалял их от нас, как древних богов. Я был только с тобой. Марсия оскорбила Тео, хладнокровно назвав его идиотом, и не пришла, а Андре, должно быть, был в отъезде, не помню. Тео пропустил мимо ушей оскорбление сестры. Когда они были маленькими, они часто ссорились, но всегда оставались близки друг другу, Марсия, как я полагаю, еще сохранила к нему чувства, а он — нет, как все дети, ставшие взрослыми, нет. Вот потому-то она и продолжала его оскорблять, в ней еще сохранились остатки кровосмесительной тайной любви, которая отталкивает друг от друга братьев и сестер: «Всё это клоунада, священник, посланник Божий и не знаю, что еще, для придурков». Она говорила холодно, сухо, безразлично, выражая таким образом то, что отсутствовало в словах, чтобы они казались объективными и не имели к ней отношения. «Всё это клоунада: и царство Божие, и наказание, и не знаю, что еще…» Тео начал: «Послушай…», но сдержался, передумал и ничего не сказал. Больше они никогда не говорили на эту тему, лучше сказать, не говорили грубостей друг другу, и воцарился мир, и сейчас, если случается им встретиться, они разговаривают о многих вещах спокойно, оставаясь братом и сестрой, о чем, возможно, ты еще помнишь.
И вдруг я увидел, что я один. Посмотрел вокруг, тебя не было. Один. Пение священников беспокоило меня, но тут я обнаружил тебя в пространстве собора, ты кружилась в воздухе. Нет, это не были твои гимнастические упражнения, хотя что-то от них было в этом легком и нежном, воздушном танце, в этом крылатом полете. Ты была обнаженной, но внимания на то не обращала. Священники пели, пели песнь неба и ада, прекрасную и ужасную. А ты танцевала, они тебя не видели, а я видел. А Тео был мертв, распростерт на каменных плитах, покрыт белым. И все это было взаимосвязано, но я не понимал сути видимого мной таинства. Звуки летели вверх, к сводам собора, и приятно, очень приятно было видеть, как ты танцуешь в вечности. Мне казалось, что я сам тоже повис в воздухе, лишившись веса. И смотрел на твой веселый танец и распростертого Тео, слышал погребальную молитву священников и кардинала, стоящего против них. Их песню смерти, но не печальную. Возможно, даже победную — того, кто попрал смерть, скажем, мученика, который будет принесен в жертву, но песней предвосхищает свою победу над палачами. Так было. Тут я почувствовал, что меня искушают, и громко закричал, заявляя о своей силе и независимости. И собор содрогнулся до основания, и я ждал, что он рухнет. И тут ты взяла меня за руку и затрясла. Священники продолжали свое пение, но уже гораздо тише, оно долетало теперь издалека, я почти его не слышал.
Читать дальше
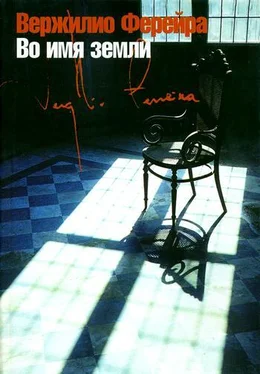
![Вержилио Ферейра - Избранное [Явление. Краткая радость. Знамение — знак. Рассказы]](/books/33192/verzhilio-ferejra-izbrannoe-yavlenie-kratkaya-rados-thumb.webp)








