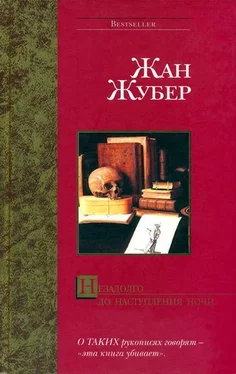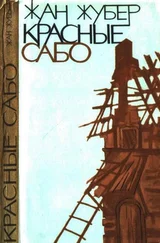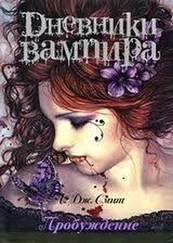Рыжекудрая красавица,
Вот и лето настало, пора исступленья,
И мертва моя юность, подобно весне.
Волосам ее золото блеск подарило,
Словно молния, вспыхнув, застыла,
Словно пламя зажгло на розах
Свой узор, горделивый и грозный. [1] Г. Аполлинер. Стихи. М., Наука, 1967. Стр. 148. Пер. М. П. Кудинова. — Примеч. пер.
«Что касается меня, то для меня наступает не лето, идущее на смену весне, а скорее близкая зима…» Он подумал о том, что вид прекрасной незнакомки раньше взволновал бы его намного сильнее, и он не отказался бы так легко от желания увидеть ее лицо и узнать хоть что-то о ней самой… короче говоря, не упустил бы случая… Женщина между тем уже исчезла. «Да, кровь, видимо, совсем остыла… она, правда, и раньше не была слишком уж горячей, и чувство прекрасного с каждым днем все притупляется и притупляется, словно красота сама как бы отдаляется от меня. Да, красота еще тревожит мое воображение во сне и в мечтах, вызывая смутную тоску сродни ностальгии о прошедших днях, но тело, тело остается безучастным. Итак, — сказал сам себе Александр, пытаясь отогнать прекрасное видение и отвлечься от романтических мыслей, — не следует забывать, ради чего ты здесь и что ты уже не в том возрасте, когда можно пускаться в безрассудные авантюры».
Приняв твердое решение впредь быть благоразумным, Александр не без сожаления вздохнул и прошел через турникет; дежурный, восседавший у входа в читальный зал и почти дремавший от скуки, рассеянно скользнул по нему взглядом. Александр оказался в огромном читальном зале, чьи высокие узкие окна, колонны и деревянные панели на стенах тотчас же напомнили ему внушительное убранство собора. Да, можно было подумать, что он вошел в храм… По обеим сторонам от центрального прохода стояли длинные столы, за которыми сидели читатели, уткнувшиеся в книги. В этом замкнутом пространстве, куда не проникают звуки большого города, царит воистину поразительная, чудесная тишина, лишь изредка нарушаемая шелестом переворачиваемых страниц или приглушенным шорохом шагов, поглощаемых мягким ковром, покрывающим пол.
Александр передал письменное разрешение заместителя директора библиотекарю, стоявшему на посту, подобно часовому, около грузового подъемника, и занял свободное место за столом, где и стал ждать, когда ему принесут первую папку. Прямо перед ним настольная лампа освещала ярким светом поверхность стола. Справа от него сидел бородатый старец и читал при помощи сильной лупы какой-то манускрипт, столь же ветхий и древний, как и он сам, написанный на неведомом языке, потому что даже буквы были Александру совершенно незнакомы. Слева от него сидел коротко стриженный на манер игрока в регби юный гигант, с головой ушедший в учебник по физике.
Наконец библиотекарь молча подошел к Александру сзади и положил перед ним на стол толстую картонную папку, перевязанную лентой.
— Вот, — сказал он, — это папка номер один.
— Спасибо. Да, кстати, а сколько там этих папок?
— Штук двадцать.
— Так много!
— Да, немало… Я к вашим услугам, а сейчас прошу меня извинить.
Вежливо склонив голову в почтительном поклоне, библиотекарь удалился, как и подошел: осторожно и бесшумно ступая по ковру.
Александр тотчас же развязал ленту и открыл папку.
От открытой папки исходил легкий запах плесени и пыли, словно папка хранилась где-то в подвале, в подземелье. Черная выцветшая лента лежала рядом на столе. Сама папка была сделана из картона бледно-голубого цвета; кое-где на крышке папки виднелись непонятные блеклые пятна. Александр уставился на первую страницу рукописи, где стояла только дата: 1965 год. Бумага явно плохого качества, она пожелтела и казалась с виду такой хрупкой, что Александр взял листок с превеликой осторожностью кончиками пальцев, так, как берут какое-нибудь насекомое, которое может укусить. Появилась следующая страница, вся исписанная мелким угловатым почерком, но вполне четким, хотя время от времени слова сползали со строчек или перо запиналось и рвало бумагу. Помарок и зачеркнутых слов было мало. Слог автора, хотя и был несколько тяжеловат и шероховат, носил явный отпечаток юношеской горячности, исступленной, бешеной ярости, терзавшей душу автора. Итак, Бенжамену Брюде 15 лет, он учится в лицее и для характеристики своего учебного заведения находит лишь слова, дышащие ненавистью: тюрьма, казарма, живодерня, скотобойня и т. д., где работают преподаватели, впавшие либо в детство, либо в старческий маразм, где классные надзиратели — садисты и где учатся его соученики — дураки, идиоты, недоумки. В персонаже, которого Бенжамен называет людоедом, нетрудно узнать его отца: это жестокий, алчный грабитель, хищник, эгоист, невежа, ограниченный тип, короче говоря, «допотопный», пещерный человек. Одним словом, отвратительный, гадкий! Что касается матери, то о ней Бенжамен упоминает редко и называет ее не иначе как «рабыней». Он много читает: его приводят в восторг Лотреамон, Арто, Бодлер. Все остальное, или почти все, по его мнению, — слезливая и никуда не годная болтовня. Никаких упоминаний о девушках; можно подумать, что вопросы пола его не волнуют, словно различий между полами вообще не существует. Жизнь городка и вообще жизнь кажутся ему чем-то гнусным, мерзким, безобразным, уродливым. Одинаковое омерзение вызывают у него все идеологии: коммунистическая, фашистская, христианская и атеистическая, однако лозунг фалангистов «Да здравствует смерть!» заинтересовал его и даже казался привлекательным. Зато Франко, этот старый манекен, вызывает резкое неприятие.
Читать дальше